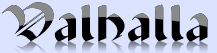
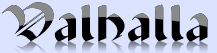 |
|
|
|
#1 |
|
Senior Member
|
В этом году отмечается 100-летие начала Первой мировой войны. В результате Первой мировой войны карта Европы оказалась полностью перекроена. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Возникли новые государства: Австрия, Венгрия, Югославия, Польша, Чехословакия, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Противоречия между новыми государствами, сохранившийся промышленный потенциал Германии и ее ущемленное положение дали толчок к новой, еще более жестокой Второй мировой войне.
 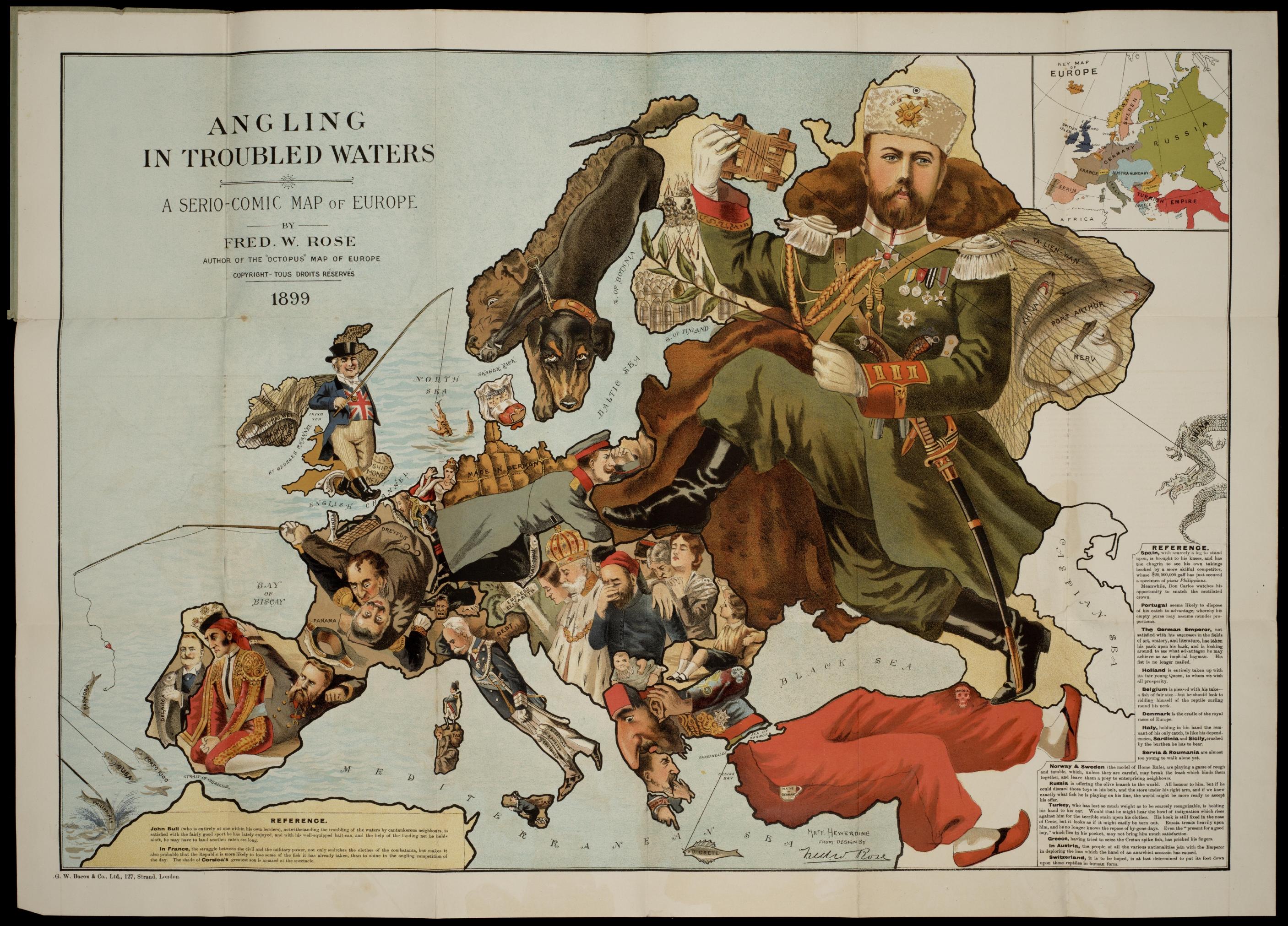        Это конечно пафосно сказано, но для начала кто-нибудь может подкинуть материальчик про экономическую расстановку сил перед началом войны? Шкурный, так сказать, интерес стран-участниц, а то мне чего-то не гуглится толком, то рефераты бестолковые попадаются, то скупая энциклопедистика, основанная на Википедии. Последний раз редактировалось Holm: 27.03.2014 в 15:56. причина: дополнение |
|
|
#2 | |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Кое-что подкину.
 Освещение целей и причин Первой мировой войны в русской печати 1914 г. Цитата:
Тезисы доклада, представленного на конференции, проходившей в апреле 2009 года. (Опубликованы: Освещение целей и причин Первой мировой войны в русской печати 1914 г. // Студенческая молодежь Подмосковья и общественные науки: сборник материалов. Коломна: МГОСГИ, 2011. — С. 33 — 36.). [1] Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века. М., 2006. 65 — 66. [2] См.: Война и общество в XX веке. М., 2008. Кн. 1. С. 125 — 130 [3] Врангель Н.Н. Указ. соч. С. 34-35 [4] Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2002. [5] Гурко В.И. Война и революция в России. М., 2007. С. 352- 353. [6] См.: За что воюет Россия? М., 1914; Великая война. Что должен знать о ней каждый русский? Пг., 1914 [7] См. подробнее о концепции вооруженного народа: Головин Н.Н. Военные усилия России в первой мировой войне. М, 2005; Лиддел Гарт Б. Правда о первой мировой войне. М., 2009. [8] Сенявская Е.С. Указ. соч. С. 66 При реализации проекта используются средства государственной поддержки (грант) в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №115-рп Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда — причина или повод Первой мировой войны? 28 июня 1914 года Гаврило Принцип совершил покушение на австрийского престолонаследника Франца Фердинанда в Сараево и его жену. Считается, что это происшествие послужило поводом к началу Первой мировой войны.  Константин Залесский, историк Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда — это не причина Первой мировой войны, а только повод. Причем повод не очень удачный. Для развязывания войны использовали случай, который появился в тот момент. Тем более что убийство Франса Фердинанда было делом рук не сербской организации, а организации, которая тайно действовала на территории Австро-Венгрии. Хотя и определенные круги Сербии могли быть причастны к убийству, однако, не правящие круги. Сербы вполне прилично ответили на ультиматум Австро-Венгрии. И после ответа Сербии в принципе следовало, что причина для начала войны отсутствует. Что касается того, действовал Гаврило Принцип по собственной инициативе или был марионеткой в чужих руках, я думаю, что он действовал исключительно из соображений патриотизма. То есть, Принцип стрелял во Франца Фердинанда и потом уже в его супругу, исключительно считая, что этот террористический акт поможет освобождению южных славян от власти Австро-Венгрии. Другое дело, что вся организация оказалась под влиянием определенных террористических и ультрарадикальных кругов сербского руководства. Но подчеркну, что не правящих в Сербии кругов, а тех, которые стремились к развязыванию конфликта. Со своей стороны Принцип действовал честно, у него была исключительно патриотическая идея. Хотя, террорист — он и есть террорист, даже если он действует с благими намерениями. И он в принципе не был марионеткой в чужих руках. Вся эта группа, которая организовывала покушение на Франса Фердинанда, действовала абсолютно сознательно. Андрей Зубов, историк Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, безусловно, послужило поводом для начала Первой мировой войны. Если бы это было причиной, то проблему можно было бы решить достаточно легко. И, в общем-то, инцидент можно было бы исчерпать. Историки отлично знают, что Австрия консультировалась с Германией, и Германия считала, что война может начаться сейчас или не начаться никогда. Именно поэтому военные программы, в том числе и программа России, шли вперед. И план быстрого разгрома французской армии на Западном фронте с последующей переброской войск на Восточный фронт и разгромом России не удался по целому ряду технических причин. Следовательно, Германия и Австрия были крайне заинтересованы в том, чтобы начать войну как можно скорее. А что касается того, как действовал Гаврило Принцип, он действовал от имени сербских националистов. То есть, представлял тех людей, которые считали, что все славянские земли должны быть объединены. Действительно было движение тогда довольно мощное, поэтому вполне возможно, что Принцип действовал совершенно искреннее, а не был двойным агентом. Павел Полян, историк Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для начала Первой мировой войны, причины были глубже. Тучи начали сгущаться постепенно. Что касается организации, конечно, нельзя назвать это неким мировым заговором, но там была довольно большая сложная цепочка. Даже для того, чтобы всё это технически состоялось. В этой ситуации важны были интересы мощных держав, которые стремились усилить свое влияние. Это всё государство с большими геополитическими конфликтами, которые были гораздо сильнее своих каких-то родственных связей. Мы помним, что русские, немецкие и английские цари были даже в некотором смысле родственники, не такие уж далекие. И вся эта ситуация вызревала, и действительно в Европе сложились определенные диспозиции разных геополитических сил, было достаточно брошенной спички для того, чтобы это всё запылало. Все предвещало конфликт, прологом которого стала Балканская война 1913 года. Николай Симонов, историк На мой взгляд, Первая мировая война была неизбежна. Свои интересы были и у Франции, и у Германии, и у Англии. Какие были интересы у России? Я, честно говоря, очень сложно себе представляю, думаю, что у России вообще не было никаких интересов в отношении этой войны. Но это все вопрос исследования и исторического знания. На самом деле тогда была очень сложная ситуация. Войну ждали и в то же время опасались. Интернационал заявил, что если империалисты развяжут войну, то они провозгласят всеобщую политическую забастовку и объявят гражданскую войну. Конечно, этого боялись. Геббельс, лидер немецкой социал-демократии говорил о том, что в случае, если капиталисты-империалисты захотят войны, то они получат в ответ войну гражданскую. Это, в конце концов, и получилось, с различными последствиями для каждой из стран, которые участвовали в конфликте. Первая мировая: битвы пропагандистов «Великая война отличалась от предыдущих конфликтов прежде всего признанием силы общественного мнения, – утверждал в 1920 году главный «военный пиарщик» вильсоновской Америки Джордж Крил, глава Комитета общественной информации. – Это была борьба за сознание людей». «Не было более благодатного поля для пропаганды, чем Соединенные Штаты в первые годы войны», – добавил британский политик Артур Понсонби восемь лет спустя, в разгар споров о «пропаганде» и ее роли в недавней войне. И центральные державы, и страны Антанты («союзники») старались привлечь симпатии американцев на свою сторону, но их стратегические цели были принципиально разными. Возможность вступления США в войну на стороне первых исключалась, поэтому цель германской пропаганды была троякой: «укреплять силы Германии, ослаблять ее противников, удерживать Америку вне войны». Эта формулировка принадлежит ведущему про-германскому пропагандисту в США Джорджу Сильвестру Виреку. Антанта добивалась участия «великой заокеанской демократии» в борьбе против «деспотического кайзеризма» и «прусского милитаризма». «За немцев не стоит решительно никто, – докладывал 28 августа 1914 года российский посол в Вашингтоне Юрий Бахметев министру иностранных дел Сергею Сазонову, – или, по крайней мере, никто не решается высказаться против такого подавляющего большинства, и не нашлась ни одна газета, которая бы даже оставалась вполне нейтральной: все соединились против Германии». Сказанное относилось прежде всего к нью-йоркской прессе – монополисту в сфере международной информации. Почему так произошло? «Американские газеты получают новости в основном из английских источников, – напомнил Уильям Рандольф Хёрст 4 августа. – Поступающие сюда «военные новости» процежены через английскую прессу и потому волей или неволей окрашены в пользу Англии, Франции и России против Германии и Австрии». «Из года в год американская публика ежедневно видела Европу в отчетливо британской перспективе, – отметил Уолтер Миллс в книге «Путь к войне» (1935). – Мало кто из наших газет имел там свои бюро, а те, кто имел, располагали слишком малым количеством подготовленных корреспондентов. В Берлине были один или два толковых американских газетчика, в Петербурге, пожалуй, ни одного, а из Парижа шли новости в основном светского или культурного, но не политического содержания. Наши газеты и информационные агентства освещали европейскую политику из Лондона. Лондонские бюро опекали корреспондентов на континенте, собирали и передавали сообщения, щедро заимствуя новости и информацию из британских газет и журналов, – просто потому, что их источники были лучше. Общность языка и недостаток квалифицированных кадров часто побуждали американцев нанимать англичан на работу». «В годы нейтралитета американские газеты были главной целью британской пропагандистской кампании, – писал Хорас Петерсон в книге «Пропаганда в пользу войны» (1939). – Почти во всех случаях они соглашались с ее позицией. Поэтому американскую прессу этих лет следует рассматривать не как зеркало, отражавшее отношение соотечественников к войне, но как основное средство британского влияния на американцев». Проведенный в ноябре 1914 года среди редакторов 367 американских газет опрос показал, что сторонники Антанты превышали сторонников Центральных держав в пять раз (105 против 20), но две трети респондентов (242) высказались за нейтралитет. «Строго говоря, – заметил Виреку в конце 1920-х годов английский разведчик Норман Туэйтс, – до вступления Америки в войну там не было никакой британской пропаганды». «Признайте, – возразил тот, – что британская пропаганда в Соединенных Штатах началась в 1776 году и продолжается по сей день». «Это контрпропаганда, – парировал бывший противник. – Мы исправляли ошибки. Мы не пытались распространять пробританские мнения через прессу». В сказанное почему-то не верилось. Чарльз Нейджел, министр торговли в администрации Тафта, в 1922 году заявил, что британская пропаганда посеяла «недоверие, несогласие и разлад» между американцами, добавив: «Кто скажет, что те же самые конторы не работают и сегодня?». Экс-конгрессмен Ричард Бартольд восклицал в мемуарах: «Слишком много честных американцев неблагоразумно закрывали глаза на опасность многоглавого чудовища по имени Английская Пропаганда. Сегодня, как и на протяжении десятилетий, этот спрут висит над нашим континентом от океана до океана. Под его пагубным влиянием история фальсифицируется, а сознание наших детей не-английского происхождения отравляется ядом ненависти против их сородичей». С первых дней войны британскую пропаганду в США возглавил бывший член Палаты общин, писатель и путешественник сэр Гилберт Паркер. Он составлял регулярные обзоры местной прессы и общественного мнения для кабинета министров, распространял по десяткам тысяч адресов издания правительственного пропагандистского бюро «Веллингтон хауз», рассылал в 360 газет еженедельное обозрение новостей и комментариев, отражавшее позицию Лондона, организовывал лекционные турне и интервью именитых британцев, поддерживал переписку с тысячами людей, стараясь влиять на их позицию и одновременно собирая информацию. «Вложенные в книги карточки содержали только имя и адрес сэра Гилберта и никаких указаний на «Веллингтон хауз», – отметил в 1935 году один из первых исследователей британской военной пропаганды Джеймс Сквайрс. – Это создавало впечатление, как будто заботливый и добрый англичанин всего лишь выполняет простой долг перед американскими друзьями, посылая им литературу и приглашая высказаться о ней или о войне в целом». Германоязычная пресса США не могла конкурировать с англоязычной в силу малочисленности, неорганизованности и отсутствия поддержки из «фатерлянда». Даже виднейшая немецкоязычная газета Нового света – нью-йоркская «Штаатс» привлекла внимание Берлина лишь с началом войны. «Утверждения врагов, – писал вскоре после войны бывший посол в Вашингтоне граф Иоганн фон Берншторф, – что германская пропаганда в Соединенных Штатах была на самом деле организована за много лет до войны, и поэтому мы в 1914 году имели в своем распоряжении готовую организацию с отделениями в каждой части страны, к несчастью, лишены всяких оснований. Достойно сожаления, что перед войной германская сторона, несмотря на мои неоднократные предупреждения, ничего не сделала. Нам всегда не хватало денег на поддержание контактов и сотрудничество с американской прессой. Даже с германо-американскими газетами не было организованной связи. Хорошо известно, что в тогдашней Германии не понимали, какую силу имеет в демократических странах общественное мнение». Иного мнения придерживался Крил: «Берлин с самого начала четко понимал военную значимость общественного мнения и тратил миллионы на то, чтобы завоевать или совратить его». «Немецкие представители, – иронизировал Вирек, – боялись ответственности за сделку в миллион долларов. Они чувствовали себя обязанными учитывать каждый истраченный цент. Нельзя отрицать возможность того, что несколько вложенных миллионов долларов могли избавить Германскую империю от миллиардных репараций и изменить ход истории». Впрочем, дипломаты не сидели совсем уж сложа руки: с 1905 года германское посольство ежегодно тратило на пропаганду по 20 тысяч марок. В 1909 году, первом году пребывания Берншторфа в должности, 17 тыс. из них получил аналитик-международник Джеймс Девенпорт Уэлпли за статьи, которые посол считал полезными: о достижениях и миролюбии Германии и о выгодах дружбы с ней. «С самых первых дней кризиса американская публика получила из своих же газет основу того, что потом стало «союзной» версией событий, – напомнил Миллс через двадцать лет после описываемых событий. – Однако англичане, не довольствуясь уже имевшимся доминированием в прессе и влиянием на читателя, решили физически закрепить за собой монополию на информацию. 2 августа, до официального вступления в войну, они ввели цензуру на своих трансатлантических телеграфных линиях, принимая сообщения только на английском языке. 4 августа, через несколько часов после объявления войны Германии, британский флот перерезал принадлежавшие последней кабели, причем так, чтобы их нельзя было восстановить. Петерсон назвал это «первым актом цензуры и одновременно первым актом пропаганды», поэтому утверждения, что «союзная» пропаганда отставала от немецкой, не выдерживают критики. Нэйджел сетовал: «Нашу страну наводнили односторонние, необъективные, лживые известия. Общественное мнение успешно сделали предубежденным, поскольку все сведения шли с одной стороны. Наше природное чувство честной игры требует информации с обеих сторон. Мы имеем право знать, мы обязаны знать правду», – и даже назвал эту меру «самой большой тактической ошибкой» англичан, поскольку «монополия – коварная вещь, опасная прежде всего для того, кто ей обладает». Старый политик мыслил довоенными категориями, причем не он один. «Посольство в Вашингтоне, – вспоминал военный атташе Франц фон Папен, будущий канцлер, – полностью бездействовало. Министерство иностранных дел в Берлине оказалось настолько не готово к войне, что даже не задумывалось о возможности того, что англичане перекроют каналы связи». Единственным «окном в мир» остались радиостанции в Сэйвилле на Лонг-Айленде, вблизи Нью-Йорка, и в Такертоне, штат Нью-Джерси, поддерживавшие сообщение с Германией. Радиосвязь между странами была установлена 28 января 1914 года; во время первого сеанса кайзер поздравил с этим президента. 5 сентября Вильсон приказал морскому министерству взять станцию в Такертоне под контроль. На станции в Сэйвилле, выходившей в эфир 4 часа в сутки, была введена цензура. Выиграв время, «союзники» заполнили прессу Нового света реляциями о своих победах (там фигурировали в основном бельгийские и французские географические названия, но кто из американцев разбирался в них) и о «немецких зверствах». Уже 4 августа Папен увидел аршинные заголовки «40 тысяч немцев взяты в плен под Льежем» и «Кронприц покончил с собой». Американский поэт ирландского происхождения Шеймус О’Шил, с началом войны ставший публицистом антибританской ориентации, в памфлете «Путешествие по стране заголовков» наглядно и на конкретных примерах – шесть полос иллюстраций – показал пристрастность американских газет и дутый характер многих сенсаций. Полоса для заголовков о германских успехах, поражениях «союзников» и нарушениях ими интересов США была демонстративно оставлена пустой. Памфлет пользовался спросом и не раз допечатывался, но не мог изменить ситуацию. «Главное, – напомнил Берншторф, – какая сторона раньше даст новости, поскольку остается первое впечатление. Поправки всегда напрасны, особенно потому, что печатаются мелким шрифтом и не на видном месте». Заявление пяти американских корреспондентов, прикомандированных к германской армии на Западном фронте, появилось 7 сентября на первой странице The New York Times, но запомнилось не оно, а те выдумки, которые журналисты опровергали словом чести. Сосредоточившись на «зверствах», антантовская пропаганда сделала их мощным средством воздействия, чего противник вовремя не понял и не оценил. Немецкая оккупация Бельгии и севера Франции, действительно, отличалась жесткостью, с применением карательных мер против партизан и заложников. Однако в середине 1920-х годов английские пропагандисты сами отказались от наиболее известных «страшилок» вроде бельгийских детей с отрубленными руками, распятого канадца и так далее. «На войне фальшивки являются признанным и очень полезным оружием, – суммировал Понсонби. – Все страны сознательно используют их для того, чтобы обманывать собственный народ, привлекать нейтралов на свою сторону и вводить в заблуждение противника». Так на полях и колонтитулах Америки начиналась Первая мировая война. http://topwar.ru/33201-pervaya-mirov...gandistov.html
__________________
Всегда найдётся кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд нравятся только котята. ©
|
|
|
|
#3 | ||
|
Senior Member
|
 Довольно интересный материал о начале информационных войн.. Сейчас-то довольно сложно прекратить информационный поток, перерезав кабель.. Довольно интересный материал о начале информационных войн.. Сейчас-то довольно сложно прекратить информационный поток, перерезав кабель..  Хм.. а война-то могла начаться несколько раньше.. Цитата:
А вот и основное противоречие России с Германией: Цитата:
http://historystudies.org/2012/08/ko...usskoj-pressy/ |
||
|
|
#4 |
|
Senior Member
|
К первой мировой войне практически все мировые державы готовились заранее. В начале XX столетия ядерное и химическое оружие еще не существовало, а авиация находилась в зачаточном состоянии. Наиболее дорогостоящим видом вооружений являлись надводные боевые корабли, по сути представлявшие собой более или менее мобильные плавучие артиллерийские батареи или форты.
История европейского броненосного кораблестроения началась с немореходных французских плавучих броненосных батарей, с помощью которых в 1854 г. была взята русская крепость Кинбурн на Черном море. С 1860 г. мореходными броненосцами обзавелась Франция, с 1861 г. - Англия, за ними последовали Италия (1862), Австро-Венгрия (1863), Испания (1865), Германия (1867), Россия (1877), Япония (1877) и латиноамериканские страны.  Первый британский батарейный железный броненосец «Уорриор». 1861 г. Длина - 127 м, ширина - 18 м, водоизмещение - 9300 т, вооружение 10 178-мм казнозарядных и 28 68-фунтовых дульнозарядных орудий. Скандинавские страны ограничились постройкой небольших броненосцев береговой обороны (наиболее сильный береговой броненосный флот к началу первой мировой войны имела Швеция). Период 1850-1870-х гг. иногда называют «новой Столетней войной», когда в ответ на закладку или спуск нового броненосца по одну сторону Ла-Манша, на другой стороне в ответ закладывался аналогичный корабль. Лишь в начале XX в. основательно «выдохшаяся» Франция окончательно отказалась от этого заведомо проигрышного состязания. К 1904 г. британский Гранд Флит числил в своем составе 54 океанских паровых линейных корабля, т.е. броненосца, около 30 имела в своем распоряжении Франция и 24 броненосца - Россия. В составе японского флота числилось всего 7 броненосцев, один из которых - «Чин Йен» - был устаревшим трофейным китайским кораблем германской постройки. Русско-японская война, на море представлявшая собой столкновение британской (Япония) и французской (Россия) школ кораблестроения, доказала недостаточную эффективность паровых линейных кораблей, вооруженных, как правило, не более чем 4-мя орудиями главного калибра и имевших ограниченные скорость и автономность. В 1906 г. в Великобритании был спущен на воду боевой линейный корабль «Дредноут», положивший начало целой серии принципиально новых кораблей. Имевший не 4-е, а целых 10 305-мм (12-дюймовых) орудия ГК, сконцентрированных в 6 бронированных башнях, усиленную бронезащиту корпуса и котлотурбинные двигатели на нефтяном топливе, позволявшие значительно увеличить скорость и дальность плавания, новый британский «броненосец» заинтересовал военные элиты не только ведущих стран Европы, но и латиноамериканских стран и США.  Линкор «Дредноут». 1906 г. Длина - 161 м, ширина - 25 м, водоизмещение - 20000 т, вооружение: 10 305-мм орудий ГК, 27 76-мм пушек. В 1908 г. появляется разновидность котлотурбинных линкоров-дредноутов - линейный крейсер, имевший увеличенную за счет незначительного ослабления броневой защиты скорость. Более-менее подробные данные о количестве строевых и строящихся линкоров и линейных крейсеров по данным на 14 июля 1914 г. содержит фундаментальный труд британского военно-морского историка Херберта Вильсона «Линкоры в бою. 1914-1918 гг.»: 1. Великобритания: 20 линкоров (12 - в постройке), 9 линейных крейсеров (1 - в постройке); 2. Германия: 14 линкоров (5 - в постройке), 4 линейных крейсера (3 - в постройке); 3. США: 6 линкоров (4 - в постройке), линейные крейсера не строились; 4. Япония: 2 линкора (2 - в постройке), 1 линейный крейсер (3 - в постройке); 5. Франция: 3 линкора (4 - в постройке), линейные крейсера не строились; 6. Италия: 3 линкора (3 - в постройке), линейные крейсера не строились; 7. Австро-Венгрия: 3 линкора (1 - в постройке), линейные крейсера не строились; 8. Бразилия: 2 линкора, линейные крейсера не строились; 9. Испания: 1 линкор (2 - в постройке), линейные крейсера не строились; 10. Чили: 1 линкор (вошел в строй под «Юнион-Джеком», но в конце войны возвращен заказчику); 11. Турция: 1 линейный крейсер «Султан Явуз Селим» (б. герм. «Гёбен»). 12. Россия: 7 линкоров (в постройке), 4 линейных крейсера (в постройке); 13. Аргентина: 2 линкора (в постройке), линейные крейсера не строились; 14. Греция: 1 линкор в постройке («Саламис», герм. «Тирпиц», не достроен). (См.: Вильсон Х. «Линкоры в бою. 1914-1918 гг.» (с дополн. Клеркона). Ссылка: http://navycollection.narod.ru/libra...on_BB/gl01.htm) Германия, значительно позже других держав включившаяся в «броненосную гонку вооружений» (первый полноценный океанский батарейный броненосец Пруссии «Фридрих Карл» вошел в строй в октябре 1867 г.), приступила к строительству собственных линкоров только в 1907 г., спустив в 1909 г. первые - типа «Нассау», имевшие еще устаревшие паровые машины вместо турбин. К концу первой мировой войны - фактически за 11 лет - германская промышленность успела построить для «Флота Открытого моря» 19 линкоров (4 - типа «Нассау», 4 - типа «Остфрисланд», 5 - типа «Кёниг», 4 - типа «Кайзер», 2 - типа «Байерн») и 6 линейных крейсеров (3 - типа «Дёрфлингер», 2 - типа «Мольтке», 1 - типа «Зейдлиц»). Россия, реально приступившая к строительству собственных линкоров (дрендоутов) в 1909 г., к началу первой мировой войны не успела ввести в строй ни одного линкора или линейного крейсера. Энергичные усилия со стороны правительства и военно-морского командования позволили к началу 1917 г. построить 7 линкоров (4 - типа «Севастополь» для Балтики и 3 типа «Императрица Мария» - для Черного моря) и ни одного линейного крейсера (ни один из заложенных в 1913 г. в Николаеве 4 линейных крейсера типа «Измаил» достроен так и не был). Поскольку «Императрица Мария» в октябре 1916 г. в результате диверсии (?) была потеряна, Октябрьскую революцию наша страна встретила лишь с 6 линкорами, которые на момент закладки в 1909 г. являлись едва ли не сильнейшими по вооружению в Европе, но к моменту входа в строй в ноябре-декабре 1914 г. уже сильно устарели.  Линкор «Императрица Мария». 1915 г. Длина - 168 м, ширина - 27,5 м, водоизмещение - 25000 т, вооружение: 12 305-мм орудий ГК, 20 130-мм орудий, 5 75-мм пушек. Между тем, неоднократно пересматривавшаяся государственная кораблестроительная программа России к 1917 г. предусматривала строительство не менее 12 линкоров и 8 линейных крейсеров, что все равно значительно уступало германским планам: после подписания Компьенского перемирия в ноябре 1918 г. на стапелях в Германии осталось не менее 12-ти линкоров и линейных крейсеров разных типов, так и не достроенных и не введенных в строй....
__________________
Кот — животное священное, а люди — животные не священные! Последний раз редактировалось Klerkon: 27.03.2014 в 19:41. |
|
|
#5 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Европа перед пропастью Первой мировой войны
Германия на всех парах шла к войне. Поэтому, попытки Петербурга наладить взаимопонимание с Берлином провалилась. В Потсдаме в 1910 году состоялась встреча Николая II c кайзером Вильгельмом II. Была достигнута договорённость о довольно широком спектре взаимных уступок для нормализации отношений. Россия обещала не участвовать в британских интригах против Германии, брала на себя обязательства о ненападении, отводила ряд военных частей с германо-польской границы. Германия также должна была взять на себя обязательства не принимать участие во враждебных России союзах, не поддерживать экспансию Австро-Венгрии на Балканском полуострове. Стороны договаривались по ряду вопросов, которые касались Османской империи и Персии. Но в итоге, когда в августе 1911 года в Петербурге товарищ министра иностранных дел России А. А. Нератов и германский посол в России граф Фридрих фон Пурталес подписали соглашение, в нём осталась только договорённость по Османской империи и Персии. Россия обязалась не препятствовать постройке немцами железной дороги Берлин — Багдад, а кроме того взяла на себя обязательство получить от персидского правительства концессию на строительство железной дороги Тегеран - Ханекин на ирано-турецкой границе. Берлин признал наличие «специальных интересов» Российской империи в Северной Персии и обязался не добиваться там концессий. Второй марокканский кризис (Агадирский кризис) Весной 1911 года началось восстание в окрестностях тогдашней столицы Марокко — города Феса. Воспользовавшись этой ситуацией, Париж под предлогом восстановления порядка и защиты граждан Франции в мае 1911 года оккупировал Фес. Стало понятно, что Марокко переходит под власть Франции и становится его колонией. Тогда Вильгельм II отправил в марокканский порт Агадир канонерскую лодку «Пантера». 1 июля 1911 года Берлин заявил о своём намерении создать в этом городе свою военно-морскую базу. Это было нарушением итогов Альхесирасской конференции в Испании (1906 года), грубым вызовов в отношении Франции. Европа была опять поставлена на грань войны. Во Франции, которая теперь чувствовала себя намного увереннее (союз с Россией был укреплён), начался бурный всплеск реваншистских, воинственных настроений. Французская общественность вспомнила об отобранных провинциях – Эльзасе и Лотарингии. Произошёл полный разрыв германо-французских экономических отношений. Французские банки, с разрешения правительства, вывели из Германии свои капиталы. Но война не началась. Россия воевать не хотела. Петербург сообщил Парижу, что вступит в войну только при нападении Германии на саму Францию, а колониальные дрязги это дело французов. Вена (хотя начальник Генштаба Конрад фон Гетцендорф говорил, что это удобный повод ударить по Сербии), сообщила, что марокканские дела далеки от национальных интересов Австро-Венгрии и из-за них начинать войну не стоит. Отказывалась от поддержки Берлина и Италия (союзник по Тройственному союзу), итальянцы вынашивали планы оккупации Триполитании и не хотели ссориться с французами и британцами. Да и Лондон устами Ллойда Джорджа довольно витиевато выразил свою поддержку Парижу. Поэтому немцы сбавили тон и пришли с французами к «полюбовному» соглашению - 30 марта 1912 года был заключён Фесский договор. Его подписали марокканский султан Абд аль-Хафид и представители Франции, Германии и Испании. По этому соглашению: - Султан отказывался от суверенитета Марокко, страна стала протекторатом Франции. Часть страны стала протекторатом Испании - сплошная полоса владений на севере Марокко (Испанское Марокко). Берлин признал законность этого шага. - Париж отдал Германии в качестве компенсации часть своих владений в Экваториальной Африке – кусок Французского Конго. Общественность во Франции и Германии была крайне недовольна. Французы считали, что вообще ничего не надо было отдавать, а немцы обвиняли рейхсканцлера Теобальда фон Бетман-Гольвега (возглавлял правительство империи с 1909 по 1917 годы) в том, что он продешевил.  [IMG]Теобальд фон Бетман-Гольвег[/IMG] Рост агрессивности Германии Когда британцы попробовали ещё раз договориться о сокращении гонки вооружений в области морских вооружений (она тяжёлым бременем лежала на экономике страны), кайзер отверг их предложения, причём довольно грубо. Он заявил, что его терпение и терпение германского народа иссякло. А адмиралу Тирпицу написал о том, что в борьбе за существование в Европе, которую будут вести германцы (Германия и Австро-Венгрия) против романцев (Франции) и славян (России и Сербии), британцы поддержат романцев и славян. А Тирпиц в феврале 1912 года поставил перед Лондоном вопрос ребром: «Наше политическое требование таково, что Британия не должна принимать участие в войне между Францией и Германией, независимо от того, кто начнёт её». Если же Берлин не получит подобной гарантии, Германии придётся вооружаться до тех пор пока не станет настолько же сильной, как Франция и Англия вместе. Естественно Лондон не мог пойти на такой шаг, после поражения Франции, Британии пришлось бы в итоге уступить мировое лидерство Германской империи. В 1912 году Париж и Лондон подписали Морское соглашение, по нему Британия в случае германо-французской войны, брали на себя задачу обороны Ла-Манша и атлантического побережья. Французские Военно-морские силы получали возможность сосредоточить свои усилия на Средиземном море. Стали проводиться консультации британского и французского Генштабов. Уинстон Черчилль (с октября 1911 года Первый Лорд Адмиралтейства) в этом же – 1912 году, предсказал, что беспрерывное вооружение «должно в течение двух ближайших лет привести к войне». Но чуть не ошибся – события связанные с Османской империей и Балканами, привели к масштабным конфликтам, которые чуть не привели к общеевропейской войне.  Итало-турецкая война (Триполитанская война шла с 29 сентября 1911 года по 18 октября 1912 года) Италия не собиралась оставаться в стороне от раздела мира и решила захватить Ливию. Дипломатическую подготовку итальянцы начали ещё в конце 19 столетия, а военную с начала 20 века. Италия заручилась помощью Франции (поддерживая её по вопросу с Марокко) и России. Берлин и Вена были союзниками по Тройственному союзу, поэтому с их стороны также ожидалось благожелательно отношение (их даже не предупредили, чтобы не требовали компенсаций). Считалось, что оккупация Ливии будет лёгкой «военной прогулкой», т. к. Османская империя была в тяжёлом кризисе, а местное население относилось к туркам враждебно. Итальянцы не мудрствовали лукаво, и повод к войне был весьма откровенен: 28 сентября 1911 года Порте был представлен ультиматум, в котором турков обвинили в том, что они держат Триполи и Киренаику в состоянии нищеты и беспорядков, препятствуют итальянским предпринимателям. Поэтому, итальянцы вынуждены (!), чтобы сохранить своё достоинство и интересы, оккупировать Ливию. Туркам предложили самим помочь в оккупации, да ещё и «предупредить всякое противодействие» итальянской армии (!). Турки были не против сдачи Ливии, но предложили сохранить формальную верховную власть Порты. Итальянцы отказались и начали войну. Но «военная прогулка» вскоре вылилась в затяжной конфликт, чреватый дипломатическими осложнениями. Итальянский 20 тыс. экспедиционный корпус при поддержке флота почти без сопротивления занял Триполи, Хомс, Тобрук, Дерну, Бенгази и прибрежные оазисы (их захватили в октябре). Но после этого итальянцы завязли, в итоге корпус пришлось увеличить до 100 тыс. армии, которой противостояли 20 тыс. арабов и 8 тыс. турков. Итальянцы потерпели несколько поражений и не могли установить контроль за всей страной, за ними было только побережье. Ливию хотели захватить за месяц, потратив 30 млн. лир, а воевали больше года, и каждый месяц уходило по 80 млн. Финансы страны были в расстройстве. Только начало Балканской войны, когда против Турции выступили несколько стран Балканского полуострова, вынудила турков пойти на мир. 15 октября 1912 года в Уши (Швейцария) подписали предварительный секретный договор, а в 18 октября в Лозанне - гласный мирный договор. Турецкие силы из Ливии выводились, территория стала «автономной», под властью Италии. Эта война была особенной из-за того, что в ней впервые применили самолёты в бою – была совершена первая разведывательная миссия, а затем и бомбардировка с воздуха. С этой войны Военно-воздушные силы стали уверенно усиливать свои позиции в ведении боевых действий. К тому же Триполитанская война расколола Тройственный союз, Берлин и Вена «охладели» к Италии, а итальянцы стали соперничать с Австро-Венгрией на Балканах.  Итальянские крейсера ведут огонь по турецким кораблям у Бейрута. Балканские противоречия Сербия, Черногория, Болгария и Греции решили воспользоваться моментом и расширить свои земли за счёт умирающей Османской империи, завершив воссоединение своих народов. К тому же элиты этих стран мечтали – о «Великой Болгарии», «Великой Сербии», «Великой Греции». Они создали Балканский союз, направленный против турков. Россия пыталась остановить эту войну: глава МИД империи Сазонов передал в Белград, что сербам не стоит рассчитывать в этой войне на помощь русской армии. Но это не остановило Сербию, решили, что и сами справятся. Турецкие силы были довольно быстро разгромлены и уже ноябре Порта обратилась к великим державам с просьбой о посредничестве. Австро-Венгрию не устраивало усиление сербов, поэтому Вена начала перебрасывать войска к границе с Сербией. Итальянцы также вели военные приготовления, претендуя на Албанию. В этой ситуации Россия приложила все усилия, чтобы сохранить мир в Европе. По её инициативе созвали Лондонскую конференцию. Черногория претендовала на Северную Албанию, а Сербия на порты в Адриатике – это было неприемлемо для Италии и Австро-Венгрии, а за ними стояла Германия. Они дали понять, что такие уступки славянским странам приведут к общеевропейской войне. Франция выражала готовность воевать, французский президент предложил Николаю II занять более решительную позицию, но царь на это не пошёл. Русский военный атташе во Франции заявил: «Мы не желаем вызвать пожар европейской войны и принимать меры, могущие произвести европейский пожар». В итоге большая война была опять отложена. На Балканах же прокатилась вторая Балканская война – теперь сцепились победители Турции. Они передрались за «турецкое наследство». Между бывшими союзниками возник спор о принадлежности Македонии, Фракии и Албании. Все государства-учредители Балканского союза были разочарованы итогами войны с Турцией и Лондонским договором. Сербы не получили доступа к Адриатике. Из-за образования нового государства Албания, Черногория не заняла северные земли этой области, Греция не присоединила к себе Фракию. Болгары была недовольны претензиями Сербии на Македонию. Сербия и Черногория потребовали у Болгарии переделить территории. Болгары отказались, началась Вторая Балканская война. Сербов и черногорцев поддержали греки. Воспользовавшись моментом, к противникам Болгарии присоединились турки и румыны. Румыния ещё в ходе Первой Балканской войны требовала у Болгарии пересмотра границ в Южной Добрудже в свою пользу. Все основные силы Болгарии были заняты на сербско-болгарском и греко-болгарском фронтах, поэтому турецкая и румынская армия не встретили серьёзного сопротивления. Болгарское правительство, поняв всю безвыходность ситуации, было вынуждено подписать перемирие. 10 августа 1913 года был подписан Бухарестский мирный договор. По нему болгары потеряли большую часть земель захваченных в входе Первой Балканской войны и Южную Добруджу. Российская общественность была шокирована, если первую войну на Балканах приветствовали, как торжество идей панславизма, то вторая война всё разрушила. К тому же все славяне были недовольны позицией России – сербы и черногорцы за то, что Петербург не поддержал их притязания, а болгары за то, что за них не заступились. Эти войны не решили балканских противоречий, все страны только разожгли свои аппетиты. Турция и Болгария, как самые обиженные, стали искать поддержки у Германии. Немецкий банк, за ряд уступок (преимущественное право на покупку казенных земель, контроль некоторых налогов и пр.), дал Турции кредит, что помогло стабилизировать ситуацию после двух проигранных войн. Берлин стал помогать туркам в реформе армии, направив миссию Лимана фон Сандерса. Европа стояла над пропастью, нужен был только предлог для массовой бойни… 
|
|
|
#6 | |
|
Senior Member
|
Случайно наткнулся на занимательную вещь:
Цитата:
|
|
|
|
#7 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Первая мировая: Геополитический аспект
По поводу событий Первой мировой войны существует расхожий штамп, который автоматически принимают за истину, а между тем, его истинность по меньшей мере крайне сомнительна. Речь идет о вступлении Румынии в войну на стороне Антанты. Каких только ироничных комментариев не удостаивают Румынию, и общим местом, стало утверждение, что ни Антанте, ни России от такого союзничества лучше не стало. В пользу этого тезиса выдвигаются следующие нехитрые аргументы: Румыния оказалась быстро разгромленной, ее пришлось спешно спасать, на подмогу пришла русская армия, из-за чего русский фронт растянулся. Однако, совершенно понятно, что какой бы слабой ни была румынская армия, определенный урон противнику она нанесла, и часть сил на себя отвлекла. Так что, если говорить о том, помогла ли Румыния Антанте в целом, то конечно, помогла, ведь число противников Антанты не увеличилось, а новый союзник со своими силами (пусть и слабыми) добавился. Но может быть правы те, кто говорит, что вступление Румынии в войну, хотя и помогло Антанте в целом, но было невыгодно именно России? Ведь фронт, который после этого была вынуждена удерживать русская армия, действительно увеличился. Увеличиться то увеличился, но по какой-то невероятной причине люди, козыряющие «растянутым фронтом», умудряются забыть, что и фронт противника также растянулся. Австро-Венгрии теперь надо было воевать с Россией не только на Востоке, но теперь еще и на Юго-востоке, куда смогла отойти разбитая румынская армия. То есть этот аргумент несостоятелен. Но гораздо важнее другое. Концентрируясь на чисто военном аспекте событий, в упор не видят геополитические и дипломатические обстоятельства. Посмотрите внимательно на карту. (Румыния выделена желтым.)  Какая важнейшая, в мировом масштабе узловая точка находится сравнительно недалеко от Румынии? Проливы Босфор и Дарданеллы! Давняя цель российской политики вообще и в Первой мировой войне в частности. Исторически Россия рвалась к проливам, Британия делала все возможное, чтобы Россия их не получила. Война еще шла, а державы задумывались о том, каким будет послевоенный мир. Война закончится, и неизбежно начнется дележ трофеев между победителями. От того, кто в каком состоянии войну закончит, зависит, на что и сможет претендовать. Предварительные договоренности еще придется подкреплять своей мощью. Почему России так нужны были проливы? Помимо очевидного усиления в Средиземноморье явно существовала и куда более масштабная цель. Шла поистине титаническая борьба между Британией и Россией за Индию. Сейчас в это трудно поверить, и, кстати, прилагаются огромные пропагандистские усилия, чтобы русские забыли об этой великой странице своей истории. Борьбу за Индию прочно ассоциируется с карикатурным «походом Платова». Но на Западе прекрасно знают о том, как обстояли дела на самом деле, и какой психоз в духе «русские идут» царил в Англии, когда Россия шаг за шагом продвигалась к сокровищнице Британской империи. К началу XX века Россия уже вышла на подступы к Индии в Азии, закрепилась в Иране, а выход к проливам создавал предпосылки для следующего броска — Суэцкий канал. Закрыв канал на замок, Россия подрывала бы возможности британцев удерживать свои огромные азиатские владения, ведь тогда бы сообщение с метрополией пришлось вести через путь вокруг Африки! Россия же выходила в южную Азию не только посуху, но и через Суэцкий канал. Этот грандиозный сценарий и реализовывали русские цари. Этому всемерно противодействовали англичане. Итак, возвращаемся вновь к событиям Первой мировой. Румынские войска разбиты, русская армия находится в румынской провинции Молдова (не путать с нынешней Республикой Молдовой, входившей тогда в Бессарабскую губернию Российской империи). То есть вступление Румынии в войну позволило России ввести войска на территорию страны, имеющий важнейшее значение для последующей борьбы за проливы! Причем ввести войска не как оккупант, а как идущий на помощь союзник. Причем нечто подобное провернули и англичане с французами, высадившиеся уже в 1915 г. в Греции, то есть опять же на подступах к проливам. Таким образом, борьба идет не только между Антантой и Центральными державами, но и внутри самой Антанты за более выгодные условия послевоенного мира. Пока англичане укрепляются на Балканах с юга, Россия делает тоже самое, но на севере. Если Россия получит проливы, то ей нужен надежный тыл, а значит необходимо втянуть в орбиту своего влияния Румынию и Болгарию. Причем успех в Румынии, создает отличные предпосылки и для успеха в Болгарии. Например, после войны можно было бы навязать Румынии какой-нибудь договор о «дружбе и сотрудничестве», это тем проще будет сделать, учитывая, что в Румынии уже стоят русские войска. Кроме того, у России был очень мощный инструмент давления на Румынию, помимо военного. Ведь что такое Румыния? Как она появилась на политической карте? Исторически существовало три княжества, в которых жил, по сути, один народ, говоривший на одном языке и исповедующий одну религию. Это Молдова (Молдавия), Валахия и Трансильвания. Исторически у них были периоды независимости, однако все три государства, так или иначе вошли в состав других стран. Интересно, что Молдова частично оказалась в составе Турции, а частично вошла в Российскую империю в статусе Бессарабской губернии. Также в составе Турции была и Валахия. Дальше две части Молдовы стали развиваться отдельно друг от друга. Бессарабская губерния после нескольких трансформаций сейчас известна под названием Республика Молдова (столица в Кишиневе). А другая часть исторической Молдовы прошла свой путь, объединилась в 1859 г. с Валахией, а через некоторое время получила название Королевство Румыния. Напоминаю, что часть Молдовы в это время продолжала оставаться в составе Российской империи (Бессарабия). Так вот, именно это и было козырем России. Например, Россия могла давить на Бухарест угрозой «воссоединения Молдовы» на условиях России. То есть изъятие у Румынии ее восточной области (Молдовы), где как раз и стояли русские войска в Первой мировой, и присоединение к ней Бессарабии. Получившееся государство было бы полностью подконтрольным России, так что Россия, формально теряя Бессарабию, реально присоединяла к себе восток Румынии. Перспектива вполне реальная, так что у России были возможности заставить Бухарест действовать, как надо. Вот такие перспективы открывались перед Россией, благодаря тому, что Румыния вступила в войну на стороне Антанты. Это было исключительно выгодно нашей стране, но, разумеется, поражение России не позволило воспользоваться открывавшимися перспективами. Вновь обратимся к карте:  Серым закрашена Германия. Дальше идет «фиолетовая» Австро-Венгрия, чуть южнее бледно желтым закрашена Болгария, коричневым Османская империя, на тот момент простиравшаяся вплоть до Персидского залива. Всё это — ближайшие союзники Германии. Таким образом, Германии удалось создать колоссальное пространство в значительной степени, подконтрольное Берлину. Обратите внимание, Германия граничит с Австро-Венгрией, Болгария в свою очередь граничит с Османской империей. Замкнуть эти звенья в одну грандиозную цепь мешает лишь крошечный клочок сербской земли между Болгарией и Австро-Венгрией, но и без этого картина получатся потрясающая — создан огромный блок с колоссальным населением, значительным экономическим потенциалом, мощными вооруженными силами. Чтобы союз наполнился реальным содержанием необходимо реализовывать общие проекты. И одним из таких проектов, стало создание так называемой Багдадской дороги. Вот ее узловые точки: Берлин — Вена — Стамбул — Багдад — Басра. Учтем, что Берлин уже был связан железной дорогой с Гамбургом, поэтому иногда употребляют термин «Гамбургская дорога». Проектируемая транспортная артерия должна была связать Атлантический и Индийский океаны и таким образом, речь шла о создании нового пути, альтернативного Суэцкому каналу, который, кстати, контролировался Британией. Понятно, что появление «Гамбургской дороги» резко меняло стратегический баланс на Ближнем востоке. В случае чего, Германия могла бы практически мгновенно перебросить свои войска к Персидскому заливу, который находился в зоне влияния Британии. Между прочим, в 1908 г. в этом регионе британцы нашли нефть, что, понятное дело, сразу повысило и без того немалое значение Ближнего востока. Усиление Германии также не соответствовало интересам Франции и России, так что Берлину пришлось долго и нудно договариваться с тремя сверхдержавами. В 1899 г. Берлин согласился допустить французский капитал к проекту, в 1911 г. пришлось признать интересы России в Иране и выбрать железнодорожный маршрут подальше от российских границ. А вот с Британией немцы нашли «общий язык» только в июне 1914 г. Берлин передал Лондону право строительства железнодорожной линии южнее Багдада в направлении Персидского залива. Если учесть, что уже в июле 1914 г. началась Первая мировая война, то с самого начала англо-германская договоренность не стоила и ломаного гроша. Могу себе представить, как во время переговоров немцы мысленно ухмылялись: «а мы вот завтра нападем, и ничего вы не получите». Так что германская уступка была фикцией, а значит, от своих воистину грандиозных планов Германия не собиралась отказываться. Кстати, вы не забыли, про маленький кусочек сербской земли, разделявший Австро-Венгрию и Болгарию? Думаю, по итогам войны, а немцы, разумеется, рассчитывали на победу, у сербов эту территорию бы отняли. В этом случае германская мозаика сложилась бы окончательно. Таков был план, разработанный в Берлине. Но в это же время Россия вела свою, еще более масштабную игру, предполагавшую захват Стамбула (Константинополя), причем это было важной, но все-таки промежуточной целью Петербурга. Как уже говорилось, Россия развивала успешную экспансию в Иране, Средней Азии и вплотную подошла к Индии. Вспомним, как во время Крымской войны англо-французский флот спокойно вошел в Черное море, и чем все это закончилось для России. Так что было крайне необходимо повесить на Босфор и Дарданеллы русский замок. А на следующем этапе можно было подумать и о броске к Суэцкому каналу, параллельно наращивая силы в Азии как плацдарме для броска к Индии. И что тогда делать англичанам? Плыть в Индию вокруг Африки? Многим сейчас трудно поверить, что Российская империя могла ставить такие глобальные задачи, и не только ставить, но располагать серьезными шансами на успех. Но вот в Лондоне уже в XIX веке всё прекрасно понимали, и делали всё возможное, чтобы затормозить движение России к Индийскому океану. Годы антироссийской пропаганды, конечно, не прошли даром, и очень многие люди до сих пор верят в отсталую, нищую и темную Российскую империю. Когда говорят об экономическом чуде предреволюционной эпохи, то тут же заявляют, что оно достигнуто за счет непомерных иностранных кредитов, выплаты по которым надорвали российскую экономику. Когда слышат о прогнозе Менделеева относительно численности населения нашей страны, то приписывают ему грубую ошибку или даже начинают насмехаться над великим соотечественником. Ну, и так далее и так далее. О прогнозе Менделеева я уже писал. На самом деле он не ошибся в своих предпосылках, и население страны к 1950 г. должно было превысить 280 млн человек. Якобы непомерные выплаты по кредитам составляли мизерную часть бюджета страны, а о темпах экономического роста можно судить по данным профессора Бориса Николаевича Миронова. Валовой национальный продукт в 1885–1913 гг. увеличивался на 3,3% ежегодно, и это несмотря на войну с Японией, террористическую войну, развязанную так называемыми революционерами и революцию 1905 года. А теперь мы подходим к самому главному. Нетрудно заметить, что план Германии пересекался с планом России в узловой точке под названием Стамбул (Константинополь). «Гамбургская дорога» проходит через этот город. И как на грех этот же город контролирует проливы, а поэтому является целью России. Учтем, что и с британской точки зрения, ни в коем случае Константинополь нельзя передавать России. Ситуация стремительно покатилась к мировой войне, ведь межгосударственные противоречия достигли такого накала, что развязать этот узел мирными средствами вряд ли было возможно. Характерно, что в 1915 г. Россия добилась от Англии и Франции признания своих претензий на Константинополь, а также проливы Босфор и Дарданеллы. Да, в конечном итоге, Британия переиграла и Россию, и Германию. Оба великих плана рухнули, и обе страны оказались проигравшими. Лондон смог реализовать свой великий оборонительный сценарий. Для России Первая мировая война — это «странная» война. «Странная» во всем. Почти всю войну сражаться в блоке победителей, и подписать Брестскую капитуляцию. Дать образцы мужества, а потом забыть своих героев. Да и сама война носит у нас совершенно абстрактное название «Первая мировая», хотя для нашей страны она была Великой отечественной. Не стыдно проиграть самой большой стране всех времен и народов. Не стыдно проиграть стране с высокообразованной элитой, колоссальным опытом колониального управления, выдающейся наукой и экономикой, очень сильной армией. Стыдно не это. Стыдно сейчас, спустя 100 лет насмехаться и плевать на героев, в тяжелых условиях, до последнего отстаивавших интересы нашей страны. Любители облить грязью Российскую империю, из тех, кто интересуются военной историей, часто приводят «Великое отступление» как аргумент, доказывающий «гнилость, бездарность и отсталость» Российской империи. В ответ на это им предлагают сравнить Великое отступление 1915 года с отступлением Красной армии до Москвы. Понятно, в чью пользу сравнение. Но этот аргумент парируют тем, что СССР противостоял Германии в одиночку, а в Первую мировую с Германией с самого начала всерьез сражались западные союзники России. Кроме того, война 1941 года принадлежит эпохе механизированных армий, то есть появилась возможность осуществлять быстрые танковые прорывы. Так что сравнивать две войны некорректно. В общем, идет долгий упорный спор, без явной правоты той или иной стороны. Но я предлагаю посмотреть на события 1915 года под другим углом. Опять обращаемся к ставшей привычной нам карте:  Посмотрите внимательно, какие именно территории оставила русская армия. Значительная их часть составляют польские земли. Это банальность, это знают все. Более того, все знают о том, насколько проблемным регионом было Царство Польское для России. В 1830–31 и 1863–64 гг. произошли Польские восстания. Причем в обоих случаях восстания зацепили и некоторые прилегающие территории, традиционно находившиеся в зоне многовекового польского влияния. Чтобы разгромить мятежников понадобились масштабные боевые действия. Надо ли говорить, что в революции 1905 года важную роль сыграли и польские революционеры. Вот такой неспокойный регион оказался в тылу русской армии, причем не глубоком тылу, а находившемся буквально рядом с фронтом. Обратите также внимание на геополитическое положение Царства Польского. Его трудно оборонять, поскольку с севера польские земли подпирает Германия, а с юга — Австро-Венгрия. Налицо серьезный риск попасть в клещи. Ситуация внешне очень похожа на Курскую дугу. Вот посмотрите:  Итак, я выдвигаю следующую версию событий. Учитывая изложенные обстоятельства, руководство нашей страны приняло решение специально отдать эти территории врагу. Поляки, не нравится вам русская власть, получите немецкую, и царская армия оставляет проблемный регион. Таким образом, немцы — представители «просвещенной Европы» превращаются для поляков в ОККУПАНТОВ, со всеми вытекающими последствиями. То есть цель отступления не столько военная, сколько политическая. Отступали не потому, что в принципе были не в состоянии сдержать немецкое наступление, а потому что решили, что плюсов в отступлении больше чем минусов. И это было не бегство, а планомерный отход, сопровождаемый сильными контрударами. В июле 1915 г. Праснышская операция, на которую немцы возлагали большие надежды, потерпела неудачу, и окружить русские армии не удалось. Осенью фронт стабилизировался. За время боев промышленность Российской империи успешно перешла на военные рельсы и уже в июне 1916 г. наша страна приготовила свой ответ — знаменитый Брусиловский прорыв. Многие думают, что тогда Россия нанесла поражение только войскам Австро-Венгрии, но это не соответствует действительности. Германские войска, также находившиеся на этом участке фронта, понесли очень крупные потери. Россия уверенно шла к победе в Первой мировой войне. http://topwar.ru/21451-zykin-d-l-per...iy-aspekt.html Ооо, про изобретения 1-й мировой войны у меня тоже припасена статейка. Попозже тогда выложу. 
|
|
|
#8 |
|
Senior Member
|
Подборка фотографий периода Первой мировой войны, сделанных на полях сражений и в учебных лагерях Соединенных Штатов и их союзников. Все эти снимки в свое время подверглись цензуре, чтобы не вызывать пораженческие настроения у населения и не выдавать секретов вражеской стороне.Источник: http://censor.net.ua/p161450
 На фотографии президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон. Через мгновение после того, как фотограф сделал снимок, из под камня, выполненного из папье-маше, вылез солдат. Снимок запретили к печати, посчитав, что он может выдать врагу новый метод маскировки.  Темнокожий американский солдат, получивший цветы от французских женщин за помощь в освобождении Франции. Снимок запретили.  Редкий снимок - взрыв американского дирижабля (аналог немецкого цеппелина).  Солдаты, утонувшие во время тренировки  Выпивающие после взятия вражеских позиций американские солдаты. Снимок был цензурирован, поскольку официально алкоголь был запрещен.  Солдат, отравившийся газом во время учений.  Этот снимок был запрещен к печати, чтобы не разглашать врагу секреты рукопашного боя.  Из-за нехватки оружия, на тренировках иногда пользовались деревянными макетами. Снимок был запрещен к печати, чтобы исключить его исользование во вражеской пропаганде.  Эта женщина с помощью фотографии пыталась передать какие-то секреты немецкой стороне, зашифровав послание в кружевах фартука.  Американские солдаты развлекаются с труппой артистов балета. Снимок был запрещен, как слишком несерьезный.  Новые пушки против подводных лодок, секретная разработка. Источник: http://censor.net.ua/p161450 |
|
|
#9 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Прыжок “Пантеры”. Репетиция Первой мировой
Сто лет назад Европа оказалась на пороге мировой войны.В эти дни исполнилось ровно сто лет со дня дипломатического инцидента, из-за которого Первая мировая война могла начаться на три года раньше. В июле 1911 года в марокканский порт Агадир вошел крошечный германский кораблик — канонерская лодка “Пантера”. Вооружение ее было ничтожно. Экипаж — мал. Единственное, на что были способны декоративные пушки “Пантеры”, — это пугать туземцев и сбивать апельсины с деревьев. Но внезапное появление этой “лохани” флота кайзера Вильгельма II в африканском захолустье, о существовании которого большинство европейских обывателей даже не подозревало, вызвало просто неописуемую истерику, которая едва не взорвала так называемый “цивилизованный мир”. Плевалась злостью, как по команде, британская свободная пресса. Впрочем, почему “свободная”? И почему “как”? Неожиданное единодушие лондонских газет, взвывших в одночасье о “германской угрозе”, можно было объяснить только такой же единодушной позицией их хозяев. Команда явно была — она последовала из лондонских клубов, где дымили сигарами вместе с членами парламента и министрами Его Величества подлинные владельцы “общественного мнения”.  Немецкая карикатура. “Пантера” и французский верблюд в Агадире А экспрессивные галльские пинки газет парижских, передовицы которых лягали “проклятых немцев” и их “сумасшедшего кайзера”, словно вскидывали ноги в канкане, объяснялись таким же единодушием вдохновителей колониальной политики “прекрасной Франции”. И только Россия в лице своей тоже “свободной” после царского манифеста 17 октября 1905 года печати реагировала на африканские страсти вяло — она пока не отошла от шока проигранной русско-японской войны. Свои незализанные дальневосточные раны пекли больнее, чем еще не расковырянные марокканские. Но по какой причине разгорелся международный конфликт? ДВЕ ЕВРОПЫ. Европой, если не считать республиканской Франции, еще правили императоры и короли. Однако сходства между той буржуазно-аристократической и нынешней буржуазно-демократической Европами было больше, чем различий. Та Европа точно так же ценила прибыль. Но, обожествляя Золотого Тельца, больше всего, как и ее современная наследница, любила разглагольствовать о морали. Нынешняя Европа несет по всему миру демократические ценности и права человека. Та Европа — просвещала “дикарей” и несла им “свет цивилизации”. И как нынешний Запад повсюду беспокоится о правах секс-меньшинств, так тот защищал везде христианских миссионеров, что, впрочем, частенько было одним и тем же. А миссионеры знай себе лезли в “отсталые” страны! Да так шустро, что даже Ярослав Гашек (тогда еще не чешский классик, а верноподданный Австро-Венгерской короны) написал одну из своих самых блестящих юморесок, назвав ее “Как мы с господином законоучителем пробовали обращать в христианскую веру африканских негритят”. Сейчас бы Гашеку такое произведение просто не дали бы опубликовать — затравили бы прогрессивной европейской сворой за одно только слово “негритенок”. Так что еще вопрос, какая Европа “свободнее” — ТА или ЭТА?  Французская медаль. На память “о покорении” Марокко Правда, между двумя Европами были и различия. К примеру, сезонные рабочие из пограничных губерний Российской империи отправлялись под осень собирать яблоки в Германию так же свободно, как и чехи из Австро-Венгрии ехали на заработки в Киев. На границе у них никто не спрашивал заграничных паспортов. А внутренние паспорта были только в России и Турции, за что их постоянно критиковали по всей Европе как “полицейские” государства. Пропуска же для краткосрочного пребывания за границей даже в “реакционной” России прямо на границе и выписывались — в жандармских железнодорожных участках — “управлениях”, как именовались они официально. Австрийские офицеры из полков, стоявших в Галиции, ездили на выходные в Россию — в Волынскую и Подольскую губернии. Офицеры же Русской императорской армии, наоборот, предпочитали отдыхать в Австрии — то есть в каком-нибудь Тарнополе или Станиславове, знакомясь с прелестями местных проституток. И даже тронувшийся рассудком Иван Франко, имя которого советская власть еще не присвоила городу Станиславову, без всяких документов приезжал из австрийского Лемберга (ныне — Львова) в русский Киев.  Полковой значок. Эта французская часть стояла в Марокко до 1944 года На мой взгляд, жизнь в той Европе была просто очаровательна. Изобрети она еще трусики-стринги для прекрасных дам и электрические эпиляторы для их не менее прекрасных ножек (корнет 9-го Киевского гусарского полка Юрий Ослопов в мемуарах уверял, что его лембергская подружка брила ноги и “самые потайные предназначенные для удовольствий места” его парадной саблей — почувствуйте, каков слог!), этому похабному континенту вообще не было бы цены! Однако континент, пресытившись красивой жизнью, мечтал только о том, чтобы не менее красиво пустить себе кровь. И всеми силами искал к тому повод. Одним из таких поводов и стал приход канонерки с эротичным названием “Пантера” в Агадир.  Журнальная обложка 1911 года. Франция защищает “свободу” Марокко "НЕСЧАСТНЫЕ “НЕГРИТЯТА”. Марокко — маленькое африканское королевство, берега которого омывали с севера Средиземное море, а с запада — Атлантический океан, насчитывало чуть более 7 миллионов человек населения (преимущественно арабов и берберов) и занимало площадь в 460 тыс. кв. км. Южная граница его растворялась в песках пустыни Сахара, где начинались французские колониальные владения в Алжире. Марокканцы занимались, в основном, сельским хозяйством, выращивая оливки, пшеницу и цитрусовые, и скотоводством. Но на их беду в недрах этой страны в конце XIX века обнаружили залежи фосфатов, марганца, цинка, свинца, олова, железа и меди. Простым дикарям, да такое богатство! — почти одновременно решили в Париже, Лондоне, Берлине и Риме. Но первой на дележ добычи прибежала Франция. Точь-в-точь, как сегодня в Ливии. В 1881 году под предлогом борьбы с набегами марокканских племен на Алжир французы перебросили части Иностранного Легиона в Сахару и захватили там несколько пограничных оазисов на спорных территориях. Окружив королевство с востока и юга, в 1901 году Париж заставил его султана Абдул-Азиса подписать договор, который санкционировал вторжение французских отрядов в Марокко для “поддержания порядка”. Годом ранее французы тайно договорились с итальянцами о разделе сфер влияния в Северной Африке: Италия предоставляла Франции полную свободу действий в Марокко, а Франция в ответ — соглашалась с правом итальянцев делать, что им угодно, в Ливии. Произошел “гешефт” — два евроразбойника поделили то, что им не принадлежало. “ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕСТВО КОЛОНИЗАЦИИ”. Но обиделась Германия. Позже других великих европейских наций вступив на рельсы индустриального развития, зато всех сразу же обогнав по темпам роста, а потом и оставив их далеко за кормой, немцы тоже создавали свою маленькую колониальную империю. Созданное в 1884 году “Общество немецкой колонизации” жаловалось в обращении к соотечественникам: “Немецкая нация вышла с пустыми руками при разделе Земного шара, свидетелем которого она была, начиная с XV столетия и кончая нашими днями. Все остальные культурные народы Европы владеют в не нашей части света целыми государствами”! Как говорили патриоты Фатерланда: “Мы тоже хотим место под солнцем!”. А солнца, как известно, больше всего в Африке. Поэтому в конце XIX века Германия поспешно обзавелась “Германской Восточной Африкой” (там ныне Танзания), “Германской Юго-Западной Африкой” (современная Намибия), а заодно “прикупила” Камерун. Везде, где появлялись немцы, они тиранически заставляли туземцев мыть руки, а кто не хотел мыть — получал жесточайшую взбучку. Особенно не любило мыть руки племя гереро в Германской Юго-Западной Африке. Обиженные таким несоблюдением норм гигиены и неуважением к их цивилизаторской миссии немецкие просветители, не долго думая, прикончили в 1904—1906 гг. около 30 тысяч “грязных” гереро с помощью новейшего автоматического оружия — пулеметов Максим. Тогда же в африканских колониях европейских стран пошел гулять стишок: На все ваши вопросы — У нас один ответ: У нас есть пулеметы, А у вас их нет! Правда, первыми пустили в ход этот поэтический шедевр еще более чистоплотные и корректные британские джентльмены — представители нации, которая подарила миру ватерклозет. Это стихотворение, воспевающее достижения технического прогресса, они сочинили после того, как выкосили в 1898 году из пулеметов в Судане армию местного правителя Махди. Суданцы ходили в отчаянные психические атаки с саблями, а англичане методично истребляли их свинцовым дождем и еще упивались при этом, какие они “герои”.  Кровавый маньяк Черчилль — участник геноцида в Судане В этой кровавой бойне принимал, между прочим, участие будущий “спаситель свободного мира” Уинстон Черчилль. Двадцатичетырехлетнее конопатое чудовище служило тогда в армии королевы Виктории кавалерийским офицером и оставило о своих злодеяниях циничные мемуары “Речная война”. Заметьте, лицемерная Европа, которая судит сегодня сербских генералов в Гааге и регулярно пинает труп Сталина, даже не подумала осудить кровавого палача Черчилля хотя бы условным историческим судом. Наоборот — еще и памятник поставила этому маньяку и алкоголику, чьи преступления в колониальных войнах ничем не уступают нацистским зверствам! А почему бы не притащить его прах в Гаагу и не разобрать по косточкам? Ведь учились будущие нацисты именно у англичан! И первый концлагерь для мирных граждан придумали не немцы, а человеколюбивые британцы в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899—1901 годов! К началу ХХ века германский капитал занимал в экономике Марокко третье место после британского и французского. Около 40 немецких фирм сооружали здесь железные дороги и занимались добычей сырья. Правительство Германской империи мечтало построить на побережье этой страны военно-морские базы и угольные станции для своего флота. Поэтому готовившаяся оккупация Марокко французами не могла не вызвать раздражение Берлина. “Если мы молча позволим Франции наступить нам на ногу в Марокко, — писал один из чиновников германского МИДа, — то этим самым мы поощрим к повторению того же в иных местах”. ФРАНЦУЗЫ ХОТЯТ МАРОККО. Независимость Марокко гарантировалась Мадридским трактатом еще 1880 года. Его подписали 13 государств — в том числе Австро-Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Великобритания, США, Италия, Испания и даже далекая от Африки холодная Швеция. В 1905 году разразился Первый марокканский кризис. Эмоциональный и красноречивый германский император Вильгельм II по дороге на греческий остров Корфу высадился в марокканском порту Танжер, где заявил, что делает визит султану как “независимому монарху”. Вильгельм выразил надежду, что “свободное Марокко” под правлением султана останется “открытым для мирной конкуренции всех наций без монополий и исключений на основе абсолютного равенства” и призвал созвать международную конференцию для защиты марокканского суверенитета. Легко заметить, что Вильгельм II говорил примерно то же, что сегодня вещает ВТО. Это объяснимо, так как германские товары вытесняли тогда английские и французские по всему миру, и именно захватывающим рынки немцам больше других была нужна свобода торговли. Напоследок кайзер добавил, что считает марокканского султана “абсолютно свободным монархом”. Сегодня сказали бы то же самое, но чуть иначе: “свободная страна” или “свободный народ”. Но сути дела это не меняло бы. Выслушав все это, султан Марокко понял, что Германия стоит за него горой, и послал предложенный французами проект “реформ” в его стране туда, откуда он выполз — в Париж. “ОБЪЯВИМ МОБИЛИЗАЦИЮ!” Демарш Вильгельма II в Танжере вызвал ярость французского МИДа. Министр иностранных дел Делькассе — человек эмоциональный и глупый — заявил, что требования Германии сохранять равные права великих держав в Марокко — блеф, на который не нужно обращать внимания, даже если немцы станут угрожать Франции войной. Британия, боявшаяся гипотетических немецких баз в этой африканской стране, пообещала Франции поддержку и заявила, что высадит 100-тысячную армию на немецком побережье, если Германия объявит французам войну. Но Вильгельм продолжал гнуть свою линию. В ответ на угрозы он высказался еще решительнее: “Пусть французские министры знают, чем рискуют… Немецкая армия перед Парижем через три недели, революция в 15 главных городах Франции и 7 миллиардов франков контрибуции!”.Шестого июля 1905 г. напуганное французское правительство собралось на экстренное совещание. Вопрос стоял ребром: или согласие на международную конференцию, или война. “Ну и что? — ответил своему премьеру Рувье глава МИДа Делькассе. — Объявим мобилизацию!”.Коллеги-министры посмотрели на своего буйного собрата, как на полного идиота. Союзница Франции Россия воевала с Японией на Дальнем Востоке и ничем не могла помочь. Немцы действительно были бы через три недели под Парижем. Далькассе мигом убрали с должности и согласились на предложения созвать конференцию. НАБИЛИ РЫЛО ДИПЛОМАТУ. Вильгельм II был расстроен. Ему не дали “спасти” Марокко и наказать страну мерзких пожирателей лягушек на 7 миллиардов франков. Но напряжение на африканском берегу не утихло и после конференции. 25 сентября 1908 года французские солдаты набили морду секретарю германского консульства в марокканском порту Касабланка. Немецкий дипломат пытался вывезти на пароходе нескольких солдат Французского Иностранного Легиона — германских подданных, обманом завербованных, как утверждали немцы, в это “страшное” формирование, где у людей отбирали даже имена, данные им при рождении. Европа снова оказалась на пороге войны. И снова Вильгельм II проявил слабость и согласился передать дело о франко-немецком мордобитии на третейское разбирательство Гаагского трибунала. Гаага промямлила, что французские власти действовали правильно, допустив, однако, “излишнее насилие” при поимке дезертиров. Но Франция вынуждена была пойти на соглашение с немцами по Марокко и обязалась “не чинить препятствий торговым и промышленным интересам Германии” в этой стране. И все-таки на этом “марокканская горячка” не утихла. Видно, место было такое беспокойное. Просто медом намазанное. Вскоре в Марокко разгорелось восстание против султана, вызванное подпиткой французскими деньгами местных кочевников — совсем, как сегодня в Ливии! И 21 мая 1911 года под предлогом защиты законного правительства и охраны европейских подданных французы вступили в марокканскую столицу город Фец. Немцы не выдержали — кто-то опять устанавливает мировой порядок и снова без нас! Канонерская лодка “Пантера” прыгнула в Агадир. И тут началось то, о чем читатель ужа знает из начала этой статьи. Газетная истерика. Мобилизация французской армии в Европе. Клятвенное обещание Британии помочь на море и на суше. И даже возвращение бешеного Делькассе в кабинет министров — на сей раз в качестве главы Морского ведомства. И началась бы война. Да только Россия еще была “не готова” и поставила условием своей помощи Франции признание ее права на Босфор и Дарданеллы. Переговоры между Парижем и Петербургом, а также Парижем и Берлином, торги и дипломатическая возня “секретной дипломатии” длились до самой осени. И увенчались 4 ноября 1911 года новым франко-германским сговором. Германия согласилась на оккупацию французами Марокко. Франция — уступила Германии в Конго 230 000 кв. км. с 600 тысячами “негров” и “негритят” или, как сказали бы мы сегодня политкорректно, “афроафриканцев”. И … рассосалось. До самого августа 1914-го, когда Россия, наконец, почувствовала себя “готовой”. А потом закончилось все — старая добрая Европа, галицийские евреи-контрабандисты, австрийские офицеры на выходных в Каменец-Подольском, русские — в Тарнополе, а чем теперь брила “потаенные места” любовница корнета Ослопова, никто не узнает. Сам он в мемуарах не дописал. А девушки, как известно, мемуары редко пишут — по причине врожденной лживости, препятствующей написанию любых честных воспоминаний. http://www.segodnya.ua/world/ictorii...j-mirovoj.html |
|
|
#10 | |
|
Senior Member
|
Небольшая цитата из книги Дж. Террейна "Великая война. Первая мировая – предпосылки и развитие." http://fb2gratis.com/read/77260/1
Цитата:
|
|
|
|
#11 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Русская Церковь в годы Первой мировой войны
Ещё ни одну войну в своей истории Россия не выиграла без активной поддержки Православной Церкви. В нашем Отечестве помощь церковных структур и отдельных священников русской армии стала традицией много веков назад. Так было и в годы одной из самых кровопролитных браней в истории человечества – Великой войны, в ходе которой многие священники бесстрашно исполняли свой долг до самого конца вместе с солдатами .  Предвоенные годы в Российской империи были не самыми лучшими для Русской Православной Церкви. В обществе назревал духовно-нравственный кризис на фоне заметного снижения авторитета церковных служителей и отдаления духовенства от паствы: таковы были неминуемые последствия двухсотлетнего Синодального периода. Однако с вступлением России в войну в народе произошёл всплеск патриотизма. Общество, включая интеллигенцию, обратилось к своим корням, к своей «русскости», которая, в числе прочего, подразумевала исповедание Православия. Способствовала этому и активная позиция самой Церкви, которая с первых же дней войны стала задействовать все свои ресурсы для поддержки фронта и оказания помощи раненым.  Святейший Синод уже в августе 1914 года издал особый указ, в котором призывал монастыри, церкви и самих прихожан жертвовать «на врачевание раненых и больных воинов», собирать средства в пользу Красного Креста, искать помещения под госпитали и подготавливать людей, способных ухаживать за больными. Белое духовенство, монахи и десятки тысяч церковных приходов со всей Российской империи незамедлительно отозвались на призыв Святейшего Синода, который первым организовал лазарет для раненых солдат в Петрограде. Помощь больным, а также семьям солдат оказывалась зачастую из личных средств священнослужителей. В считанные недели лазареты и санатории для воинов появились в десятках городов; сёстрами милосердия в них становились прихожанки храмов и в первую очередь, «матушки» - жёны священников.  Несмотря на тяжёлое для России время, стране удавалось исправно собирать для армии необходимые средства. И Церковь выполняла здесь привычную для себя роль: как отмечает российский юрист Д. А. Пашенцев, «благотворительная деятельность Русской Православной Церкви осуществлялась на трех уровнях: общецерковном, епархиальном и местном. Крупные акции помощи нуждающимся, проводимые под руководством Святейшего Синода, имели место в периоды народных бедствий, поэтому Церковь выступала как организатор социальной помощи и как непосредственный благотворитель».  Более того, Церковь помогала не только императорской армии, но и братской Сербии – в частности, раненым сербским солдатам. Помимо этого, церковные структуры собирали пожертвования для беженцев и голодающих на занятых противником территориях. Особо стоит отметить учреждение во всех крупных приходах Приходских Попечительных Советов. Такие органы самоуправления помогали на местах семьям военнослужащих по хозяйству, засеивали поля и собирали урожай – одним словом, выполняли всю работу, которой занимался ушедший на фронт кормилец.  Непосредственно на фронте служение несли полковые священники. Помимо духовного окормления личного состава, они поднимали боевой дух солдат, подготавливали их к возможной встрече с болью и смертью. Перед тем, как принять бой, воины читали слова молитвы: «Господи Боже, Спасителю мой! По неизреченной любви твоей Ты положил душу Свою за нас. И нам заповедал полагати души наши за друзей своих. Исполняя святую заповедь Твою и уповая на Тя, безбоязненно иду я положить живот свой за Веру, Царя и Отечество и за единоверных братий наших. Сподоби меня, Господи, непостыдно совершить подвиг сей во славу Твою. Жизнь моя и смерть моя — в Твоей власти. Буди воля твоя. Аминь»  Всего за время войны в действующей армии побывало более 5 тысяч капелланов, и их деятельность отнюдь не ограничивалась молебнами. Священники не были обязаны находиться на передовых линиях фронта, однако зачастую они по собственной инициативе вели за собой целые полки. Известно немало случаев, когда священнослужители, жившие в окопах вместе с солдатами, тонувшие с моряками на боевых кораблях, проявляли настоящий героизм и были за это отмечены соответствующими наградами – при жизни или посмертно.  Полковой священник во время Первой мировой войны Так, 6 октября 1914 года крушение терпел корабль «Прут». Служивший на нём священник, 70-летний иеромонах Антоний (Смирнов) осенял крестом с палубы тонувшего судна борющихся со смертью моряков. Антоний отказался садиться в шлюпку, чтобы не занять «лишнее» место, и скрылся под водой вместе с кораблём. Георгием 4-й степени был награжден полковой священник отец Василий (Шпичек). В момент, когда 9-й драгунский Казанский полк, в котором он служил, должен был двинуться в атаку на австрийцев, произошло страшное: на команду командира идти в бой полк отреагировал полнейшим бездействием и остался сидеть в окопах. Тогда, по рассказам очевидцев, «вылетел на своей лошаденке» отец Василий и с криком: «За мной, ребята!» понесся вперед. Сначала за ним пошли в атаку офицеры, а за ними и весь полк. В результате противник в страхе бежал с поля брани.  Полковой священник иероманах Евтихий Тулупов, был убит в бою идя с крестом в руках впереди атакующего полка 24 июня 1915 года героически погиб отец иеромонах Амвросий, священник 3-го Гренадерского Перновского полка. Он с крестом в руках повёл за собой солдат, одержавших уверенную победу над противником, и был убит в ходе атаки. Аналогичный случай произошёл 7 ноября 1916 года в 154-ом пехотном Дербентском полку. Протоиерей Павел Смирнов повел батальон на турецкое укрепление, которое было успешно взято штурмом. Сам священник при этом был тяжело ранен. В ожесточённых боях, ведя за собой солдат, героически погибли также священник 439-го пехотного Илецкого полка отец Михаил (Дудицкий), иеромонах отец Евтихий (Тулупов), священник Черноярского пехотного полка отец Александр (Тарноуцкий) и многие другие.  Православная церковь, обустроенная для военнопленых в Ганновере Вот что писал в своих воспоминаниях о войне генерал Брусилов : «В тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры – полковые батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких простым евангельским словом и поведением... Они навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой». Всего за время первой мировой за проявленный героизм государственными наградами были отмечены около 2500 капелланов – половина всех священников, оправленных на фронт.  Русская походная церковь времён Первой Мировой войны «В Великую войну… священники делили с воинами все тяжести и опасности, возбуждали их дух, своим участием согревали уставшие души, будили совесть, предохраняли наших воинов от столь возможного на войне ожесточения и озверения», - писал в своих мемуарах протопресвитер русской армии и флота отец Георгий (Шавельский). Однако одновременно с этим свою работу по усыплению совести и пробуждению озверения вели в армии революционеры-агитаторы. К 1917 году они в этом заметно преуспели, и священнослужителей уже стали убивать не немецкие, а русские солдаты. |
|
|
#12 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Неизвестные герои Первой мировой
 В недавно вышедшей книге Вячеслава Бондаренко «Герои Первой мировой» есть рассказ о Римме Ивановой, сестре милосердия из Ставрополя. Судьба забросила девушку в 105 пехотный Оренбургский полк, где она погибла во время боя, подняв солдат в атаку. В Оренбургский полк Римма попала случайно. До этого она уже служила в Польше, в 83-м Самурском полке, затем вернулась домой в Ставраполь, но мирный быт далекого от войны города вынесла не долго. Тем более, что в Ставрополе ее начали находить письма однополчан. «Приехала я домой ненадолго, — делилась Римма в письме сокровенными мыслями с братом Владимиром. — Может, с месяц побуду здесь. Исполню желание родных: приехала повидаться, но как дорого мне стоит этот отъезд из полка. Солдаты были опечалены и плакали. Начальство тоже взгрустнуло. А главное, что солдаты уверены, что санитары без меня не будут добросовестно работать. Поднесли мне солдатики прощальный благодарственный лист. Очень тяжело было ехать. Из полка получила удостоверение, что работала верой и правдой и представлена к георгиевским наградам. Но все это неважно — важно то, что полюбили и оценили меня воины-самурцы. Наш полк лучший в корпусе... Знаешь, кажется, отдала бы все, чтобы сейчас хоть на минутку попасть в свой полк: посмотреть, все ли живы те, кого оставила здоровыми. Может быть, тебе покажется странным, но полк наш мне стал второй семьей». Вскоре Римма объявила родителям о том, что собирается вернуться на фронт. Жарким вечером 15 августа 1915 года она попрощалась с ними на перроне ставропольского вокзала. Путь Риммы лежал в Киев — именно там, в штабе округа ей должны были оформить документы и направить в полк. Конечно, она просилась назад, в ставший ей родным 83-й Самурский, к этому времени отступивший из Польши в Белоруссию. Но по пути решила заехать в расположение 105-го пехотного Оренбургского полка, младшим врачом, в котором служил ее брат. Владимир очень обрадовался Римме и приложил все усилия к тому, чтобы оставить ее в своем полку. Ее направили было в полковой лазарет, но девушка поставила условие — только передовая линия, иначе она уедет к самурцам. Скрепя сердце Владимир Иванов согласился. Римму назначили фельдшером 10-й роты полка. Отношение солдат и офицеров к новой сестре милосердия с самого начала было теплое. В начале сентября Римма писала родителям: «Мои хорошие, милые мамуся и папка! Здесь хорошо мне. Люди здесь очень хорошие. Ко мне все относятся приветливо... Дай вам Господи здоровья. И ради нашего счастья не унывайте... Чувствуем себя хорошо! Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, мои родные. Целуем. Римма».В 105-й Оренбургский полк, входивший в состав 27-й пехотной дивизии 31-го армейского корпуса, Римма Иванова прибыла в самом конце августа 1915 года. Тогда обстановка на полесском участке только что созданного Западного фронта в целом складывалась благоприятно для русской армии. Наступление немцев вглубь Белоруссии начало выдыхаться, наша армия то и дело контратаковала, навязывая врагу встречные бои. 8 сентября в ходе ожесточенного боя был освобожден недавно захваченный германцами городок Сморгонь, где в плен были взяты четыре вражеских офицера и 350 солдат. К востоку от города Лида немцы, переправившиеся было через реку Гавья, были отброшены назад. А в Полесье восточнее Огинского канала русские войска освободили от оккупантов села Речки и Лыща, причем были взяты пленные и захвачены несколько пулеметов. Отличился и 105-й пехотный Оренбургский полк. В этот день Римма отправила матери очередное письмо от своего имени и от имени брата. Это была совсем короткая весточка: «Чувствуем себя хорошо! Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, мои родные, Целуем. Римма. 8.IX.15». Следующий день, 9 сентября 1915 года, 105-й Оренбургский полк встретил на окраине деревни Мокрая Дуброва, расположенной в Пинском уезде Минской губернии (ныне Пинский район Брестской области Беларуси). Погода была сырой и прохладной, зарядил дождь. С раннего утра немцы начали сильный артиллерийский обстрел позиций оренбуржцев, раненые поступали в полковой лазарет один за другим. Римма не покладая рук перевязывала солдат. Ее 10-я рота готовилась перейти в контратаку. В тумане по сигналу командира роты цепь солдат поднялась из окопов. Римма, как и полагалось сестре милосердия во время боя, находилась в цепи, чтобы в случае необходимости оказать помощь раненым. И тут произошло непредвиденное. Рота нарвалась на засаду — несколько хорошо замаскированных станковых «максимов». Первыми рухнули под пулеметными очередями шедшие впереди два офицера 10-й роты. Потом солдаты, следовавшие за ними. Остальные, оставшись без командиров, растерянно оглядывались: еще минута, и атака захлебнется, а немцы хладнокровно расстреляют роту в упор. И тогда впереди поредевшей русской цепи показалась маленькая фигурка в сером холстинном платье с красным крестом на переднике. — Братцы, за мной!..  Когда солдаты поняли, что на вражеские окопы бежит их любимая медсестра, рванулись за ней в штыки с громовым «Ура». В атаку пошли даже тяжелораненые. Пулеметный огонь по-прежнему косил роту, но воодушевление оренбуржцев было так велико, что вражеская позиция под Мокрой Дубровой оказалась захваченной через полминуты. Но никто в 105-м Оренбургском полку не радовался этой победе. В ходе боя Римма была смертельно ранена разрывной пулей в бедро. Ее последними словами стали: «Господи, спаси Россию». Весь полк оплакивал гибель своей любимицы. В журнале боевых действий полка появилась запись: «В бою 9 сентября Римме Ивановой пришлось заменить офицера и увлечь за собой храбростью солдат. Все это произошло так просто, как умирают наши герои».10 сентября павшую героиню отпевали в храме Святой Троицы села Доброславка, что в семи верстах от места, где погибла Римма. Именно тогда, после отпевания, офицеры и нижние чины 105-го Оренбургского полка приняли общее решение — просить Георгиевскую думу Западного фронта представить медсестру-героиню посмертно к ордену Святого Георгия 4-й степени. Эту просьбу поддержало командование дивизии. Командир 31-го армейского корпуса генерал от артиллерии П. И. Мищенко также высказался «за», прислав на имя Владимира Иванова телеграмму: «Покойной доблестной сестре Римме Ивановой при отправлении тела воздайте воинские почести. Почту долгом ходатайствовать о награждении памяти ее орденом Св. Георгия 4-й степени и зачислении в список 10 роты 105-го полка».Но командиры дивизионного и корпусного уровня сами решить такой вопрос не могли. Ведь за всю историю страны георгиевским кавалером была только одна женщина — основательница ордена Екатерина II. Ситуация была тем более щекотливой, что орден предназначался для награждения только офицеров и генералов, а Римма вообще не имела никакого воинского звания или чина. Кроме того, женщины в русской армии во время Первой мировой уже успели совершить далеко не одно героическое деяние. Даже самая знаменитая русская женщина-воин, легендарная кавалерист-девица Надежда Дурова, и та была награждена только «солдатским Георгием», точнее, Знаком отличия Военного ордена № 5723. Однако Николай II согласился с предложением фронтовой Георгиевской думы и утвердил указ о посмертном награждении Риммы Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени. Это произошло 17 сентября 1915 года. А 20 сентября страшная весть о гибели Риммы достигла Ставрополя. По материалам книги Вячеслава Бондаренко «Герои Первой мировой» |
|
|
#14 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
«Я живу хорошо, денег мне от вас не нужно» — письма с фронта Первой мировой
 Стилистика текстов сохранена, пунктуация и орфография отредактированы. Епанешникова Алексея Яковлевича, бойца 151 пех. Пятигорского полка, уроженца д. Березовой Вараксинской вол. Царевококшайского уезда Казанской губ. 1915 года от 18 июня. В первых строках моего письма я кланяюсь Настасье Листратовне. С любовью низкий поклон и желаю от Господа Бога доброго здоровья и скорого и счастливого успеха в делах ваших. Еще я кланяюсь своим любезным деткам. С любовью низкий поклон, и желаю от Господа Бога доброго здравия. Еще я кланяюсь маменьке Аграфене Михайловне. С любовью низкий поклон и желаю от Господа Бога доброго здоровия и скорого успеха в делах ваших. Еще я кланяюсь всем своим родным по низкому поклону и желаю вам всего хорошего. Настя, я тебя попрошу, пожалуйста, не оставьте мою просьбу. Пришли 1 фунт табаку махорки и сколько-нибудь сухарей. Пришли поскорее. Теперь мы находимся в действующей армии. У меня товарищи деревни Коряковой Яков Ивоелов, второй — Павел Дружинин, третий — Ратманов, четвертый — деревни Кожино Куприян Анциферов. Покуда остаюсь жив и здоров. Того же вам желаю. Покуда обо мне шибко не заботьтесь. Служба идет покуда хорошо. Настя, я от вас писем не получаю о Троице. Письма пиши почаще, и пропиши мне что у вас дома делается. Мне всегда узнать хочется. Адрес мой 21 полевая почта, Действующая армия, 151 пехотный Пятигорский полк, 3 рота, 4 взвод. Больше ничего не присылайте кроме табаку и сухарей1. Епанешников Алексей Яковлевич пропал без вести в бою 15 июля 1915 г. В ответе Центрпленбежа на запрос о судьбе бойца к марту 1919 не числился ни в списках военнопленных, ни в списках вернувшихся из плена. Смирнов Григорий Пахомович, унтер-офицер 4 Сибирского стр. полка. Германия, лагерь военнопленных Гамельн на Везере (Hameln a.d. Weser), 43-я рабочая компания, личный № 33430. 20.03.1918. Пахому Смирнову, поч. Вознесенский, Петриковская волость, Царевококшайский уезд Казанской губернии. Христос Воскресе. Дорогие родители, вы пишете, что не получаем письма, я вам посылаю почти в каждой неделе, посылки ваши я получаю, сколько вы посылаете, но прошу не забывайте дальше, поддерживайте меня посылками и пишите почаще письма. А деньги ваши (10) руб. я еще не получил. На этом до свидания2. Смирнов Григорий Пахомович, 1890 г.р., великоросс, грамотный, холост. Пленен под г. Лодзь 1914.11.09, вернулся домой 24.09.1920. Чистяков Ананий Алексеевич, 306 пех. Мокшанский полк, лаг. Вюртх (Wurths), рабочий № 9163. Матрене Чистяковой, д. Нырьялы, Арбанская вол., Царевококшйский уезд Казанской губ. 1916 года сентября 15. Здравствуйте, дорогая моя жена и дети мои. Я вам посылаю всем нижайшего почтения, с любовью низкий поклон и желаю вам от Господа Бога доброго здоровья. И я вас прошу напишите мне ответ, все ли живы и здоровы. Я остаюсь пока живой и здоров. (последняя строка нечитаема)3. Чистяков Ананий Алексеевич, 1889 г.р. эвакуирован из Германии, лаг. Минзин, вернулся 25.04.1920 Плотников Александр, рядовой, личный № 81667, лаг. Скальмершиц. Федору Семеновичу Плотникову, Казанской губ., Царевококшайского у. Арбанской вол. д. Нырьялы. 20 января 1918 года. Здравствуйте, дорогие родители, папаша и мамаша. Кланяюся глубочайшим почтеннейшим поклоном, и всем братишкам. Папаша и мамаша, я нахожусь в плену в Германии. Пришлите посылкою сухарей и крупы, не отказывайте моей просьбе. Я пишу каждой неделе письмо. С вас никакого ответа нет и никаких посылок нет. Пока остаюсь жив-здоров. От Господа Бога доброго здоровья тоже и я вам желаю. Затем прощайте4. Плотников Александр Федорович, рядовой 18 Стрелкового полка. О дальнейшей судьбе сведений пока не имеется. Белоусов Алексей Гаврилович, мл. унтер-офицер отдельной команды, 306 пех. Мокшанский, Германия, лаг. Лехфельд (Lechfeld), № 5406. 7 января ... Здравствуйте, любезные родители, Папаша и Мамаша. Посылаю вам нижайшего почтения и желаю быть здоровыми. Еще кланяюсь супруге Екатерине Сергеевне и с дочерью Аннушкой. ... шлю вам нижайшее почтение и желаю всего хорошего. Затем уведомляю: получил от вас 2 писем. Если возможно, пускай учится в школе дочь моя. До свидания. Я жив и здоров. И вам желаю 5. Белоусов Алексей Гаврилович. Д. Княжна, Вараксинская волость, Царевококшайский уезд, Казанская губ. Портной, великоросс, православный, женат. Пленен 1915.01.31 под г. Серпц. К 1919.06.02 содержался в лаг. Хамельбург откуда эвакуирован в Россию, вернулся на родину 1 июля 1919 г. Павел Чулков. Казанской губ. Царевококшайского у. Вараксинской вол. д. Гомзовой Михаилу Николаевичу Чулкову. 1917 года 14 марта. В первых строках своего письма уведомляю вас, дорогие родители, папаша и мамаша, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Получил я от вас двое писем и благодарю вас за письма. Вы пишете, что если надо сухарей пришлите пшена ... и к ним кусок сала и с фунт табаку. С тем до свидания, дорогие родители. Ваш сын Павел Михайлович Чулков. Жду ответа и посылки. До свидания6. Чулков Павел Михайлович, боец 18 Саперного батальона, взят в плен 20 января 1916 г. в бою под м. Чернов, содержался в Австрии, в лагере Тингшвар, вернулся на родину 10 апреля 1919 г. Притула Иван. (Лист подшит так, что дата нечитаема — А.К.) Дорогие родители, посылаю я вам сердечный привет и наилучшие пожелания. От Господа желаю вам доброго здравия и благополучия. Посылаю привет брату Дмитрию и сестре Софии. Желаю им доброго здравия и благополучия. Дорогие родители обо мне не беспокойтесь. Я живу хорошо, денег мне от вас не нужно. Вам если нужно пишите, я пошлю. Я получил два Георгиевских креста и медаль за храбрость. Нового у меня пока нету ничего. Пишите как живете а обо мне прошу не беспокойтесь. Остаюсь покорный ваш сын Иван. Мой адрес: Действующая армия, 308-й пех. Чебоксарский полк, оружейная мастерская. На обороте: Действующая армия 308-й пех. Чебоксарский полк, ружейная мастерская. Господину Ивану Апритуле. Дорогие родители. Мне в полк больше не пишите я с полка уехал в Минск и от туда я поеду в авиационный отряд. Я Вам напишу адрес где я буду. Обо мне не бесспокойтесь мне служить хорошо я теперь устроюсь хорошо. Но моя (2 слова зачеркнуто «жизнь она» — А.К.) служба опасная. Я летаю на аэроплане, вожу по воздуху бомбы до Немцов и громим их обозы. Но я уже привык и не боюсь. Прошу вас не беспокойтесь обо мне. Будьте здоровы. Целую вас. Любящий сын Ваня. Передайте сердечный привет Антону Лащу и Теме. Желаю всего хорошего. От Бога доброго здравия. Ваня. 1917 г. 21 марта. Жду ответа как ласточка лета. Письмо 1917 года 30-го декабря (Карандашом ниже — А.К.)7. Притула Иван Антонович, из беженцев, урожденный Холмской губ., Ментской вол. Взят из запаса на службу в 308 пех. Чебоксарский полк в мае 1915 г. из которого к 1917.03.21 переведен в Воздухоплавательный Авиационный Отряд. К 29 мая 1918 сведений семье на запросы о местонахождении или о дальнейшей судьбе не поступало. Источник - http://hero1914.com/ya-zhivu-xorosho...isma-s-fronta/ |
|
|
#15 | |
|
banned
Регистрация: 08.2005
Проживание: Лес
Возраст: 39
Сообщений: 5.799
Записей в дневнике: 17
Репутация: 61 | 0
|
План Шлиффена
 Цитата:
|
|
|
|
#16 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Знаменитые участники Первой мировой войны
Эрнест Хемингуэй  Служил шофером-добровольцем в Красном Кресте. Он хотел попасть на фронт, но долго не получал разрешения из-за слабого зрения. После перевода на реку Пьяве стал разносить еду солдатам в окопы.  В июле 1918 года Хемингуэй попал под обстрел, когда спасал раненого снайпера. В госпитале из него достали 26 осколков. На теле его было более двухсот ран. Там же, в госпитале, он познакомился с медсестрой Агнес фон Куровски и влюбился в нее. Считается, что именно она стала прототипом главной героини романа "Прощай, оружие!".   Агнес фон Куровски В Милане ему сделали операцию на ноге - вместо коленной чашечки вставили алюминиевый протез. Отец писателя научил его свистеть, когда больно, чтобы отвлечься. На этой фотографии видно, что Хемингуэй свистит.  После возвращения Эрнеста на родину, нью-йоркские газеты писали: "Хемингуэй - первый американец, раненный на итальянском фронте, король Италии наградил его серебряной медалью "За доблесть" и итальянским Военным крестом". Алексей Толстой  Русский писатель Алексей Толстой не мог служить, так как имел травму - у него был поврежден лучевой нерв. Он стал военным корреспондентом.  Александр Блок В июле 1916 года поэта призвали служить в инженерную часть Всероссийского Земского Союза. Он отправился в Белоруссию. По собственному признанию Блока в письме к матери, основные его интересы в армии были "кушательные и лошадиные".  Александр Блок (3 слева) среди солдат и офицеров инженерной бригады Сомерсет Моэм Английский писатель Сомерсет Моэм служил в годы Первой мировой войны в британском Красном Кресте и входил в число так называемых "Литераторов - водителей автомобилей скорой помощи". Кроме него в этот список входили еще 23 известных писателя из Великобритании и США.  Уолт Дисней Будучи совсем юным подростком, Дисней хотел пойти добровольцем на фронт, но его не взяли из-за возраста. В школе он рисовал карикатуры и патриотические картинки на военные сюжеты. Дисней пошел служить в Красный Крест. Как и Моэм, он стал одним из водителей автомобиля скорой помощи.  Эрих Мария Ремарк Немецкий писатель Ремарк был призван в армию в возрасте 18 лет. В июле 1917 года был ранен в левую ногу, правую руку и шею. Из-за ранения попал в госпиталь, где и пробыл до конца войны. Впечатления писателя, оставшиеся от войны, вылились в роман "На Западном фронте без перемен".  Джон Толкин Толкин отправился на фронт не в самом начале Первой мировой войны, а в 1915 году. Служил в полку в звании второго лейтенанта. Он очень тяжело переживал расставание со своей женой Эдит и в письмах к ней рассказывал о превратностях военной службы. Войну Толкин ненавидел. Много лет спустя он говорил, что к 1918 году практически всего его близкие друзья были мертвы.  В 1916 году он отправился во Францию в составе 11-го батальона Британских экспедиционных войск и под впечатлением от переезда написал поэму "Одинокий остров". Чтобы рассказывать жене Эдит о своих перемещениях по линии Западного Фронта, Толкин сочинил специальный секретный код, который и использовал в своих письмах к ней. В октябре 1916 года он заболел окопной лихорадкой. А в ноябре был освобожден о службы, после чего вернулся в Англию. Михаил Зощенко В марте 1915 года Зощенко прибыл на укомплектование 16-го гренадерского Мингрельского Его Императорского Высочества Великого князя Дмитрия Константиновича полка Кавказской гренадерской дивизии и был назначен на должность младшего офицера пулеметной команды. В ноябре этого же года он получил легкое ранение в ногу. В июле 1916 года его произвели в поручики.  В ходе проведения немецкими солдатами газовой атаки получил отравление и попал в госпиталь. В феврале 1917 из-за развившегося в следствие отравления газами заболевания (порок сердца) был отчислен в резерв. Михаил Зощенко был награжден 4-мя орденами за годы Первой мировой войны, а также представлен к 5-ому ордену, но не получил его в связи с революционными событиями в России в 1917-м. Николай Гумилев Ушел добровольцем на фронт в 1914 году. Военную подготовку освоил, находясь в Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества полка. В ноябре этого же года полк перебросили в Южную Польшу. Гумилев был награжден знаком отличия военного ордена (Георгиевского креста) 4-й степени за проведенную накануне боя ночную разведку. В январе 1915 был произведен в унтер-офицеры. В феврале поэт простудился и месяц провел на лечении в Петрограде, а после вернулся на фронт.  Участвовал в сражениях в Западной Украине, после чего получил 2-й знак отличия военного ордена (Георгиевского креста). В 1916 году Гумилев выпускает сборник "Колчан", куда входят стихи на военную тематику. В 1917 он отправился в русский экспедиционный корпус в Париж. В январе 1918 года был устроен в шифровальный отдел Русского правительственного комитета, но уже в апреле решил вернуться в Россию. Источники фото: voiceseducation.org, ru-hemingway, aria-art.ru, liveinternet.ru, bukvaved.net |
|
|
#17 | ||
|
Senior Member
|
А Маннергейм!?!..
  Цитата:
Надо сказать, что он был одним из тех, кто не признал февральской революции. И еще немножко..  Цитата:
|
||
|
|
#18 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
История о верности слову: британский офицер сам вернулся в плен
Стала известна удивительная история времен Первой мировой войны: британский офицер, захваченный в плен германскими войсками, получил разрешение навестить свою умирающую мать при одном условии — вернуться обратно в Германию.  Капитан Роберт Кэмпбелл сдержал данное кайзеру Вильгельму II обещание и вернулся из графства Кент в Германию, где и пробыл до конца войны в 1918 году. Историк Ричард ван Эмден рассказал Би-би-си, что капитан Кэмпбелл чувствовал себя обязанным сдержать свое слово. Однако, вернувшись, Роберт Кэмпбелл сразу же попытался убежать. Ван Эмден наткнулся на эту историю, когда изучал материалы министерства иностранных дел Великобритании, хранящиеся в Национальном архиве, для своей книги «Встречи с противником: человеческое лицо Великой войны». Капитан Кэмпбелл из 1-го батальона полка Восточного Сарри был взят в плен 24 августа 1914 года на севере Франции и был отправлен в лагерь для военнопленных в Магдебурге, на северо-востоке Германии. Ему тогда было 29 лет. Он был в лагере, когда пришло известие, что его мать Луиз умирает от рака. Письмо кайзеру Капитан Кэмпбелл написал письмо германскому кайзеру Вильгельму II, умоляя дать ему разрешение вернуться в Англию, чтобы навестить больную мать. И кайзер ему разрешил. Но с одним условием: если Кэмпбелл даст слово, что вернется. Историк ван Эмден считает, что Кэмпбелл почти наверняка отправился из Германии в Голландию, а затем на пароходе и поезде добрался до городка Грейвсенд в графстве Кент, где и провел неделю с матерью, а потом тем же путем вернулся в Германию. Его мать умерла в феврале 1917 года. Ричард ван Эмден рассказал Би-би-си, что капитан Кэмпбелл чувствовал себя обязанным выполнить слово, данное кайзеру. «Он мог подумать: если я не вернусь, никогда больше ни одного офицера не выпустят под честное слово», — говорит историк. При этом ван Эмден находит удивительным то, что британские власти не запретили капитану Кэмпбеллу вернуться в Германию. Больше никому из британских военнопленных не предоставляли «отпуска по семейным обстоятельствам». Известно, что Великобритания заблокировала аналогичную просьбу пленного немца Питера Гастрейха, находившегося в лагере для интернированных на острове Мэн. Долг, честь, возвращение и побег Но удивительная история капитана Кэмпбела не закончилась с его возвращением в Германию, потому что сразу после этого он попытался бежать. Вместе с группой других заключенных Кэмпбелл девять месяцев рыл подкоп под лагерной стеной. Им удалось вырваться, но они были задержаны на голландской границе и отправлены обратно. Ван Эмден говорит, что, с одной стороны, капитан Кэмпбелл считал долгом чести сдержать слово офицера и вернуться в лагерь. Но то же чувство офицерской чести заставило его попытаться бежать из плена. Газета Daily Mail сообщила, что после окончания Первой мировой войны капитан Кэмпбелл вернулся в Великобританию и продолжал службу в армии до 1925 года, когда и ушел в отставку. Но он вернулся на воинскую службу, когда в 1939 году началась Вторая мировая война. Кэмпбелл служил в качестве главного наблюдателя в Королевском корпусе наблюдателей на острове Уайт. На острове Уайт он и скончался в июле 1966 года в возрасте 81 года. |
|
|
#20 |
|
Senior Member
Регистрация: 10.2012
Проживание: Under varje rot och sten...
Возраст: 35
Сообщений: 2.399
Репутация: 82 | 5
|
Германские пути сообщения
Эта статья раскрывает один из главных секретов успехов немецко-прусской армии в годы первой мировой. И речь идет вовсе не о развитой промышленности или внушительном золотом запасе. Речь идет о хорошо продуманной и грамотно устроенной сети железных дорог и шоссе. Чего только стоит тот факт, что позиция корпусов изначально определялась таким образом, чтобы вблизи было от 3-х до 5-ти шоссейных дорог! Прив.-доц. В. Н. Сементовского Уже всем хорошо известно, что «превосходно развитая сеть железных дорог позволяет немцам легко перебрасывать войска к угрожаемому пункту», и что превосходные пути сообщения — одно из важных преимуществ Германии; в связи с этим находится и огромное развитие автомобильной тяги в германской армии, и зависимость армии от своих дорог, вдали от которых значительно понижается ее способность к действиям. Интересна в этом смысле подробная карта Германии, из которой можно многое извлечь о путях Германии. Карта эта превосходно, тщательно и подробно выполнена на 27 листах, в масштабе 1:500 000, т. е. около 12 верст в дюйме. Превосходная внешность каждого листа, детальная отделка, искусно подобранные оттенки, чистая работа, — все это дает впечатление даже не карты, а художественного произведения. Все необходимые данные ясно выделяются на карте: рельеф страны, леса, озера, реки, болота, каналы, дороги, населенные места и т. д., причем тщательно разработаны условные знаки. Карта эта — один из примеров, образцов немецкой техники. Захватывает она и пограничные с Германией части государств, в том числе и России. Некоторые русские названия с трудом поддаются немецкому произношению и написанию. Особенно трудны для них буквы щ и ч. Например, городок Щучин (5 букв) передается на немецкой карте так: Schtschutschyn (14 букв), причем звук щ передается 7 буквами, а ч — 4 буквами. Полная сеть путей сообщения нанесена на карте, причем для каждого рода пути имеется свой способ изображения, и превосходно разработана систематизация их (см. вверху табличку условных знаков путей сообщения; по цифрам можно отыскать помещаемые ниже названия путей). Железных дорог в Германии видов: 1) Магистраль двуколейная. 2) Магистраль одноколейная. Железные дороги магистральные, т. е. главные, имеют значительные протяжения и, кроме значения для близких мест, входят, как звено, в цепь прямого, скорого, непрерывного сообщения между отдаленными пунктами, имеющими важное значение. Магистраль в две колеи, понятно, важнее, так как имеет большую пропускную способность, чем одноколейная магистраль. 3) Второстепенные железные дороги. Эти дороги обычно коротки, но многочисленны, и густая сеть их примыкает во многих пунктах к магистралям. 4) Узкоколейные и, в горах, цепные железные дороги. 5) Железные дороги специально для целей промышленности. Еще более густа сеть шоссе: 6) Главные шоссе, шоссе 1-го порядка, во всякое время года для тяжелых грузов, повозок, экипажей. Это именно те шоссе, которые поражали наши войска в Восточной Пруссии. Гладкие, как стол, плотно убитые, с превосходно сконструированным полотном, они выдерживают самое усиленное движения тяжестей. 7) Шоссе второстепенные, меньшей ширины, удобства и качества. 8) Обыкновенные, не поддерживаемые искусственно, соединительные дороги (проселки?), а в Альпах, преимущественно, дороги, пути туристов. Из всех этих разнообразных дорог получается строго разработанная густая сеть. Основу составляют магистрали. Промежутки между ними прорезаны частыми железными дорогами второй степени и шоссе 1-го порядка. Наконец, пустые ячейки внутри петель этой сети заполнены шоссе 2-го порядка. Как разнообразной величины и важности артерии, вены, нервы человеческого организма, идут эти дороги, не оставляя ни одного участка без своего оживляющего влияния. В важных направлениях соединяются, идя рядом, железные дороги и шоссе. Крупные пункты выпускают, как щупальцы, от себя множество дорого во все стороны. Представление об этой сети дают две приложенные карты: первая — местности Сольдау — Остероде — Алленштейн; вторая — области наибольшего развития озер Вост. Пруссии — Лык — Летцен — Зенсбург. Сеть шоссе несравненно гуще сети железных дорог. Достаточно сказать, что на изображенных картах нет ни одного места, которое было бы далее пяти верст от какого-либо шоссе! Так что любое место позиций в любой местности отстоит никак не далее пяти верст от шоссе, а чаще и ближе; это чрезвычайно важно для всех снабжений армии. Позиция корпуса, нормально расположенного, будет иметь в распоряжении от 3 до 5 шоссе. Части Восточной Пруссии, изображенные на прилагаемых картах, не велики, всего до 70 верст в длину и 60 в ширину, т. е. величиной с небольшой уезд наших центральных губерний, — а между тем, как велико протяжение дорог на этих участках, и вообще всюду в Германии! На 1-й карте длина железных дорог: магистралей до 115 верст, в том числе двуколейных — 100 верст. Второстепенных железных дорог — до 170 в. Шоссе 1-го порядка, главных — до 380 в., шоссе второго ранга — до 450 в. А всего дорог до 1 115 верст — на пространстве нашего небольшого уезда! |
| Для отправления сообщений необходима Регистрация |
|
|
 Похожие темы для: Первая мировая война
Похожие темы для: Первая мировая война
|
||||
| Тема | Автор | Разделы & Форумы | Ответов | Последнее сообщение |
| I Мировая война | Хм | Всемирная история, политика | 16 | 01.03.2015 22:51 |
| чем тебе интересна вторая мировая война | Funeral | Всемирная история, политика | 12 | 07.02.2004 09:59 |
| Реклама | |

|
|